«Сегодня функции искусства — утешение и соединение людей» | Статьи
В мире стало меньше скрипачей высокого класса, нервы у художника оголены всегда, а успех — это не аплодисменты, а логический экстаз. Об этом «Известиям» рассказал худрук Национального филармонического оркестра России (НФОР) Владимир Спиваков. Беседа с выдающимся скрипачом и дирижером состоялась после концерта-открытия, с которого стартовал новый сезон в Московском международном Доме музыки.
«В Скрябина я сейчас совершенно влюблен»
— Мне сказали, что вы все лето провели за партитурой Второй симфонии Скрябина.
— Да. Я не мог играть на скрипке, у меня была операция на пальце, удаляли кисту — доктора считают, что она возникла из-за ковида. До сих пор не занимаюсь: не могу согнуть палец так, чтобы обхватить гриф. Ужасно! И вот летом я оказался практически в таком же положении, как и Александр Николаевич, когда он, будучи пианистом, переиграл правую руку и стал писать изумительные сочинения для левой руки.
— Мне всегда казалось, что Александр Скрябин вам не очень близок, вы больше тяготели к Сергею Рахманинову…
— Совершенно верно, тем более они не очень дружили, хотя были однокурсниками и оба писали фуги у Сергея Танеева во время учебы в консерватории.
Я действительно довольно мало играл Скрябина, очень постепенно приближался к его творчеству. Можно сравнить это с планетой. Вначале вы на нее смотрите в телескоп, изучаете, а потом подлетаете к ней — и она своей гравитацией вас затягивает.
Я внимательно читал его письма. Они открывают очень многие вещи. Мне вообще важно, чем питались композиторы в интеллектуальном плане. А Скрябин питался русской религиозной философией, очень близко дружил с Николаем Бердяевым.
А Скрябин питался русской религиозной философией, очень близко дружил с Николаем Бердяевым.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— Вы человек верующий, православный. Но Скрябин, особенно в поздние годы, стал склоняться в сторону специфических религиозных течений — Блаватская и так далее.
— Да, специфических. Но он все равно был устремлен в область космоса. У каждого человека свой путь к Богу. А сколько было блужданий у Петра Ильича Чайковского!
— Где и когда вы планируете исполнить Вторую симфонию?
— В Москве в начале февраля, после 150-летия со дня рождения Скрябина. Может быть, сыграем ее вместе с его же «Поэмой экстаза». И я еще не решил, играть ли его Фортепианный концерт.
— Музыка Скрябина до сих пор считается непростой для восприятия. Не боитесь сдержанной реакции? Вообще, если придется выбирать между концертом, после которого вы сами не вполне удовлетворены, но публика в полном восторге, и обратной ситуацией, когда вам удается задуманное, но публика реагирует не так, как хотелось, что бы вы предпочли?
— Второе, конечно. Для меня успех — это не аплодисменты, а логический экстаз, когда исполнение оказывается подчинено разуму
Для меня успех — это не аплодисменты, а логический экстаз, когда исполнение оказывается подчинено разуму
«Мало педагогов, которые бы служили своему делу»
— Есть ли у вас коллеги, с которыми можно было бы обсудить, действительно ли всё получилось? Чьему мнению вы доверяете?
— Мое поколение уходит безвозвратно. Людей, с которыми я общался, которых ценил, чье мнение мне было важно, практически не осталось.
— А из более молодых?
— Встречаюсь с музыкантами НФОР и советуюсь с ними.
— А коллеги-дирижеры? У вас начинал Теодор Курентзис.
— Мы с ним в хороших отношениях, но не могу сказать, что советуюсь с ним, как сделать то или другое. В свое время он работал вторым дирижером в НФОР, у него был сложный период, ему очень не везло. Однажды я его встретил в Новосибирске в аэропорту, говорю: «Ты что здесь делаешь?» — «Я вас встречаю». — «А что случилось?» — «Меня выгоняют из театра».
Я помог сделать так, чтобы его не выгнали. Он талантливый человек. Главное, что он любит работать и репетировать — в отличие от многих других. Это уже достойно уважения. Теодор из тех, кто вникает, хочет дойти до совершенства.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— Вы не испытываете чувства одиночества, когда вам не с кем на равных обсудить вашу дирижерскую деятельность?
— Испытываю иногда. Но одиночество необходимо, потому что тогда человек имеет возможность спокойно подумать.
— Ваш оркестр много играет с молодыми пианистами, вокалистами, но очень редко со скрипачами нового поколения. Почему?
— Сейчас в мире не так много скрипачей высокого класса. Раньше было больше.
— Чем вы это объясняете?
— Может быть, тем, что сейчас мало педагогов, которые бы служили своему делу. Есть педагоги, но служителей мало
Из молодых скрипачей у меня есть любимцы, я считаю их в чем-то своими воспитанниками. Одна из них — Мария Дуэньяс, испанская девочка, которая в 11 лет выступала на нашем фестивале «Москва встречает друзей». Она сыграла одну маленькую пьесу на три минуты. Я ее пригласил к себе в кабинет и спросил, где она живет, кто ее родители. Выяснил, что папа — полицейский, мама — учительница, живут они на окраине Гранады довольно бедно. Я ей говорю: «Тебе нужно учиться». — «Да, мы думаем». И назвала мне фамилию педагога, но я посчитал, что ей надо заниматься не у него, а у профессора Бориса Кушнира в Вене. Она призналась, что у них нет денег даже на билеты в Вену. Я говорю: «У тебя будут деньги на билет, мой фонд тебе даст».
Одна из них — Мария Дуэньяс, испанская девочка, которая в 11 лет выступала на нашем фестивале «Москва встречает друзей». Она сыграла одну маленькую пьесу на три минуты. Я ее пригласил к себе в кабинет и спросил, где она живет, кто ее родители. Выяснил, что папа — полицейский, мама — учительница, живут они на окраине Гранады довольно бедно. Я ей говорю: «Тебе нужно учиться». — «Да, мы думаем». И назвала мне фамилию педагога, но я посчитал, что ей надо заниматься не у него, а у профессора Бориса Кушнира в Вене. Она призналась, что у них нет денег даже на билеты в Вену. Я говорю: «У тебя будут деньги на билет, мой фонд тебе даст».
Позвонил Кушниру, сказал, что готов принять финансовое участие в ее обучении. Но поскольку Борис — советский человек, из прошлого времени, то он ответил, что деньги с меня брать не будет. И три года с ней бесплатно занимался. Она необыкновенно развилась, выросла и стала просто колоссальным мастером. В октябре в Москве она сыграет концерт с нашим оркестром.
Такой же Даниэль Лозакович. Его мама хотела, чтобы он был теннисистом, но я ее отговорил. Ему было девять лет, когда я с ним встретился. Мы с «Виртуозами Москвы» взяли его на гастроли. Он учился у человека, с которым я вместе жил в интернате, — у Иосифа Рысина, ставшего профессором в Карлсруэ. Иосиф дал мальчику настоящую фундаментальную советскую школу игры на скрипке.
Еще я люблю выступать с Сережей Догадиным, который получил первую премию на Конкурсе имени Чайковского. Он тоже воспитанник моего фонда.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
— Почему вы сами не преподаете?
— У меня сейчас на это и времени-то нет. Но когда-то я в Гнесинском институте 15 лет проработал.
— А консерватория вас не приглашала?
— Приглашала, но тогда был другой ректор, не Александр Сергеевич Соколов, которого я очень уважаю, — он все-таки настоящий визионер. А в те советские времена на вопрос «Что будет с моими гастролями?» — мне ответили: «Каждый раз будете писать заявление, просить, чтобы вас отпустили». А я не привык ничего просить. Поэтому я пошел в Гнесинку, которой руководил Владимир Николаевич Минин. Он сказал: «Владимир Теодорович, можете заниматься дома, когда и где хотите, полная свобода вам».
А я не привык ничего просить. Поэтому я пошел в Гнесинку, которой руководил Владимир Николаевич Минин. Он сказал: «Владимир Теодорович, можете заниматься дома, когда и где хотите, полная свобода вам».
— В продолжение темы талантливой молодежи хочу спросить у вас про пианистов-вундеркиндов. На концерте-открытии сезона Дома музыки с вашим оркестром играла 17-летняя Ева Геворгян. В последнее время она стала настоящей звездой. Вам не кажется, что такой успех для психики ребенка опасен?
— Это зависит от человека. Ева — очень серьезная девочка. Она живет в Митино в обычной квартире и не может играть в субботу и воскресенье. Я использую свое служебное положение и даю ей возможность по выходным заниматься в Доме музыки. Так вот Ева приходит в полдесятого утра и уходит в полдесятого вечера.
«С композитором у меня должна сложиться духовная связь»
— Почему для концерта-открытия вы выбрали такой репертуар — довольно легкий? Григ плюс известные оперные арии.
— Потому что первые концерты сезона как бы предваряют День города, и мне хотелось сыграть что-то более или менее популярное. Не исполнять же в такой праздник симфонию Брукнера.
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
— Московская филармония практически одновременно с вами открыла сезон гастролями ансамбля современной музыки
— И прекрасно. Я с очень большим уважением отношусь к этому ансамблю, замечательный коллектив. Но у филармонии свое мнение по поводу формирования программы, а у меня — свое.
— Ваш концерт был COVID-free, то есть на него пускали только зрителей с сертификатами о вакцинации. Почему?
— Московское правительство попросило, чтобы было именно так.
— Вы не против этого?
— Не против. Зал-то все равно был полный.
— Да, я видел, что все билеты проданы. В дальнейшем вы тоже планируете работать с учетом таких правил?
В дальнейшем вы тоже планируете работать с учетом таких правил?
— Не знаю. Это зависит не от меня. К сожалению, иногда бывают вещи, непонятные простым людям, к которым я причисляю и себя. Почему можно вводить локдаун? Почему на концерт можно пустить 50% зрителей, а в цирк — 100%? Мне это неясно. Но нужно подчиняться каким-то правилам
. Noblesse oblige, как говорят французы. Положение обязывает.— Вы проводите ежегодный Рождественский фестиваль, и, думаю, этот год не будет исключением. На этом фестивале звучали разные произведения, в том числе митрополита Илариона (Алфеева). Однако среди профессионалов и публики существуют разные мнения насчет его творчества.
— Владыка Иларион открыт ко всему. Да, он работает в традиционной манере, но это искренняя музыка, профессионально написанная — он же учился в консерватории. Я с удовольствием его играю и записываю.
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков и музыкант Тимур Пирвердиев
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
— Вы следите за тем, что происходит в новейшей музыке? К чему-то присматриваетесь?
— Слежу, присматриваюсь. Но невозможно быть всеядным. При моем подходе к музыке нужно время, чтобы подготовить исполнение. Я должен вникнуть, полюбить, сделать так, чтобы у меня с этим композитором сложилась не просто дружба по каким-то житейским интересам, а духовная связь.
Но невозможно быть всеядным. При моем подходе к музыке нужно время, чтобы подготовить исполнение. Я должен вникнуть, полюбить, сделать так, чтобы у меня с этим композитором сложилась не просто дружба по каким-то житейским интересам, а духовная связь.
— Как вы оцениваете творчество современных композиторов?
— Каждое время выбирает своих авторов. Например, в XX веке время выбрало Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке. Нынешнюю эпоху выражают другие фигуры.
Правда, я не сказал бы, что сейчас есть композиторы, которые меня приводят в какой-то душевный трепет.
— А кому из современных авторов это все-таки удавалось?
— Шнитке, отчасти Арво Пярту. София Губайдулина мне тоже очень нравилась. Я одним из первых исполнял ее «Семь слов Христа».
— Губайдулина по-прежнему активно работает.
— И слава Богу.
— Вы как-то с ней контактируете?
— Близко — нет. С Пяртом когда-то контактировал, он мне даже посвятил сочинение «Зеркало в зеркале». Я исполнил его на своем юбилее. Это было начало концерта, очень волнующее. Трудно в моем возрасте медленно вести смычок, чтобы рука не задрожала.
Я исполнил его на своем юбилее. Это было начало концерта, очень волнующее. Трудно в моем возрасте медленно вести смычок, чтобы рука не задрожала.
— Сокращение количества ваших выступлений в качестве скрипача связано с возрастом?
— Конечно. Но из моих ровесников мало кто достойно играет на скрипке, честно говоря. Есть физиологические законы. Вместе с нашим рождением рождаются и элементы смерти. Паскаль сказал, что жизнь — это воспоминание об одном дне, проведенном в гостях.
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
— Вы очень много гастролируете по России. Но и в Москве на ваши концерты билеты прекрасно продаются. Зачем вам регионы?
— Я люблю ездить по России. И у нас все-таки национальный оркестр, не будем забывать. В регионах более сердечная публика, и сам факт нашего приезда важен для людей. Они чувствуют, что мы с ними. Сейчас функции искусства — утешение и соединение людей, а не просто создание чего-то прекрасного вне жизненных реалий.
— Когда мы с вами разговаривали полтора года назад, вы сказали: «У меня нервы оголены». Сейчас что-то изменилось?
— Нервы у художников все время оголены, честно вам признаюсь. Я остро чувствую время, и вообще я переживающий человек.
— У вас есть дирижерская мечта?
— К юбилею Сергея Васильевича Рахманинова (в 2023 году ему исполняется 150 лет. — «Известия») мне хочется осуществить запись всех трех его симфоний. Сейчас Скрябин на очереди. Еще я очень люблю симфонии Малера, но не знаю, успею ли записать все, что задумал. Как говорил Фрэнсис Бэкон, мечта хороша к завтраку, а не к ужину. Я понимаю, что сейчас время бежит быстрее, а у меня остается его все меньше. Что успею, то успею…
Справка «Известий»Владимир Спиваков родился в 1944 году. В 1963-м окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, в 1967-м — Московскую консерваторию по классу скрипки, три года спустя — аспирантуру там же. С 1970-го — солист Московской филармонии. Регулярно выступал с ведущими симфоническими коллективами страны и мира. В 1979 году основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», в 2003-м — Национальный филармонический оркестр России. Президент Московского международного Дома музыки. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР (1989) и РФ (2012). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Артист мира ЮНЕСКО.
С 1970-го — солист Московской филармонии. Регулярно выступал с ведущими симфоническими коллективами страны и мира. В 1979 году основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», в 2003-м — Национальный филармонический оркестр России. Президент Московского международного Дома музыки. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР (1989) и РФ (2012). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Артист мира ЮНЕСКО.
«Искусство должно утешать обеспокоенных и мешать комфортным»
Знаете, я очень ценю, когда авторы постов в любых других соцсетях уважают мое душевное состояние и заранее предупреждают, что контент может содержать что-то, что испортит мое беспечное настроение. Тоже буду уважать вашу тонкую душевную организацию и заранее напишу, что некоторые работы этого автора могут порадовать не всех, хотя лично меня анатомические зарисовки никак не подкашивают. Сама тема смерти в искусстве, особенно когда изображены животные — да, вносит некоторое внутреннее волнение, но никак не мешает мне получать удовольствие от разглядывания такого рода картин.
Я понимаю, что Стивен Кинг, «Пила», анатомические атласы и другие «ужасы» далеко не у всех входят в зону их интересов, поэтому, друзья, не стесняйтесь в выражениях, ваше негативное впечатление меня никак не заденет — это ваша картина мира и ваше право выбирать, что в эту картину вписывается. От себя, опережая некоторые комментарии, скажу, что да, я бы повесила такие работы у себя дома..))
Добро пожаловать в анатомический театр итальянского художника из Болоньи — Нунцио Пачи. Его работы — это коктейль из медицины, человеческой и животной анатомии, гербария и таксидермии, жизни и смерти, органичной композиции и научного рисунка, детализации и положения тел, пастельных цветовых сочетаний и полупрозрачной легкости.
«Я родился и вырос в маленьком провинциальном городке в провинции Болонья и до сих пор живу в сельской местности. Природа всегда была для меня верным спутником».
Трудно не заметить ассоциативный ряд между корнями и ветвями деревьев, оленьими рогами и кровеносными артериями. Переплетения веток и мышц, стебли, рвущиеся из тел наружу, препарированная и раскрытая плоть, утопающая в роскошных букетах — таковы натюрморты memento mori от Нунцио Пачи. А присутствие в живописных работах ауры, легкого свечения вокруг объектов — гипнотизирует и уводит в философские размышления о возрождении в последующей жизни.
Переплетения веток и мышц, стебли, рвущиеся из тел наружу, препарированная и раскрытая плоть, утопающая в роскошных букетах — таковы натюрморты memento mori от Нунцио Пачи. А присутствие в живописных работах ауры, легкого свечения вокруг объектов — гипнотизирует и уводит в философские размышления о возрождении в последующей жизни.
«Быть художником — это не выбор, а своего рода состояние ума. Вы должны начать видеть все, что вас окружает. Старайтесь творить, пытаться использовать свое воображение и стараться каждый день преобразовывать свою повседневную жизнь».
Пока читала о Нунцио Пачи, наткнулась на фразу, приписываемую Бенкси: «Искусство должно утешать обеспокоенных и мешать комфортным». Как она хороша! И как я с ней согласна!
Рисунки, порой, напоминают нетленки Микеланджело, анатомические альбомы эпохи Возрождения и так же могут служить иллюстрациями к фильмам ужасов о патологоанатоме-романтике.
«Я думаю, что моя работа заключается в «стремлении к тому, что мы постоянно теряем» — голосам, духам, воспоминаниям… У меня часто возникает чувство, что я изобретаю фрагменты воспоминаний, которые я забыл».
«Почему вы чувствуете необходимость рассекать, раскрывать тела, которые вы рисуете? Поскольку внутренняя часть тела по-прежнему является табу во многих отношениях, как публика реагирует на анатомические детали в ваших работах?
Я должен быть эгоистичным. Я никогда не думаю о том, что может чувствовать публика, я не спрашиваю себя, что другие хотели бы или не хотели бы видеть. Я слишком занят, укрощая свои мысли и превращая свои травмы в образы.
Я не могу вспомнить точно, когда я заинтересовался анатомией, но я никогда не забуду, когда впервые увидел, как кто-то освежевал кролика. Я был очень маленьким ребенком, и я был встревожен и в то же время очарован — не самой насильственной сценой, а тем, что было спрятано внутри этого животного. Я сразу решил, что никогда не причиню вреда живому существу, но постараюсь понять их «конструкцию», их внутренний дизайн.
Я сразу решил, что никогда не причиню вреда живому существу, но постараюсь понять их «конструкцию», их внутренний дизайн.
Позже, желание производить призрачные художественные работы вступило в силу, и я начал отслеживать предметы, которые могли быть выразительными, не оскорбляя никакой чувствительности. Но, в конце концов, то, что мы чувствуем, когда смотрим на что-то, также является продуктом нашего собственного опыта…».
И отдельно надо сказать о названиях к работам Пачи. Некоторые из них — это маленькие, но емкие истории или названия странных книг:
— Ваше дыхание на моих заснеженных ветвях
— Корни заставили меня увидеть, земля заставила меня дышать
— Корни соединяются, корни растворяются
— Сон о запахе бледной гвоздики
— Я сохраню твои ветви, я откажусь от твоей плоти
— Плющ, который мешает бежать далеко
— Тщеславное подавление плохой мысли (это как раз последний графитовый рисунок с инструментами у лба и оленем)
С 2004 года работы Нунцио Пачи выставляются в музеях, частных галереях и на художественных ярмарках в Италии, Швейцарии, Германии, Дании, США, Арабских Эмиратах, Турции и Сингапуре. Он постоянный гость на международных художественных симпозиумах в Боснии, Швеции, Китае, Канаде и Норвегии.
Он постоянный гость на международных художественных симпозиумах в Боснии, Швеции, Китае, Канаде и Норвегии.
Осенью 2019 года Пачи был художником-резидентом в университете Линнань в Гонконге, где провел студийный практический курс под названием «Формирование идентичности» и очень высоко оценил то, как студенты воспроизводили кропотливые произведения искусства на основе собранных им природных объектов.
«Вся моя работа связана с отношениями между человеком и природой, в частности с животными и растениями. В центре моего наблюдения находится тело с его мутациями. Мое намерение состоит в том, чтобы исследовать бесконечные возможности жизни в поисках баланса между реальностью и воображением
Искусство утешения — Михаил Игнатьев
Иллюстрация из «Ада», первой части «Божественной комедии» Данте Алигьери. Художник: Гюстав Доре. Фото The Print Collector через Getty Images. В связи с празднованием Дня Благодарения мы не будем проводить наш еженедельный счастливый час для платных подписчиков в этот четверг и не будем публиковать статьи в эту пятницу. Желаем всем счастливого и значимого Дня Благодарения!
Желаем всем счастливого и значимого Дня Благодарения!
– Редакция.
Я навещаю друга, который шесть месяцев назад потерял жену. Он хрупок, но безжалостно бдителен. Стул, на котором она сидела, по-прежнему стоит напротив него. Комната остается такой, какой она ее устроила. Я принесла ему торт из кафе, куда они ходили вместе, когда ухаживали. Он жадно ест кусок. Когда я спрашиваю его, как идут дела, он смотрит в окно и тихо говорит: «Если бы я только мог поверить, что увижу ее снова».
Мне нечего сказать, поэтому мы сидим молча. Пришел утешить или хотя бы утешить, но тоже не могу. Чтобы понять утешение, нужно начать с моментов, когда оно невозможно.
Консоль. Это происходит от латинского , consolor , чтобы найти утешение вместе. Утешение — это то, что мы делаем или пытаемся сделать, когда разделяем страдания друг друга или пытаемся вынести свои собственные. Мы ищем, как двигаться дальше, как продолжать идти, как восстановить веру в то, что жизнь стоит того, чтобы жить.
Но здесь, в этот момент с моим старым другом, я вспомнил, как это сложно. Он поистине безутешен. Он отказывается верить, что сможет жить без нее. Попытка утешить его приводит нас обоих к границам языка, и поэтому слова замирают в тишине. Его горе — это глубокое одиночество, которое нельзя разделить. В его глубинах нет места надежде.
Этот момент также раскрывает, каково это жить в это время после рая. На протяжении тысячелетий люди верили, что снова увидят своих близких в загробной жизни. Они представляли себе это живо, и это изображали великие художники: облака, ангелы, небесные арфы, нескончаемое изобилие, свобода от трудов и болезней, но прежде всего воссоединение, на этот раз навсегда, с возлюбленной.
Рай был формой, которую надежда принимала на протяжении тысячелетий, но то, что Шекспир сказал о смерти, верно и в отношении рая: это страна, из которой не возвращается ни один путешественник. К шестнадцатому веку европейцы начали подозревать, что такой страны никогда не существовало.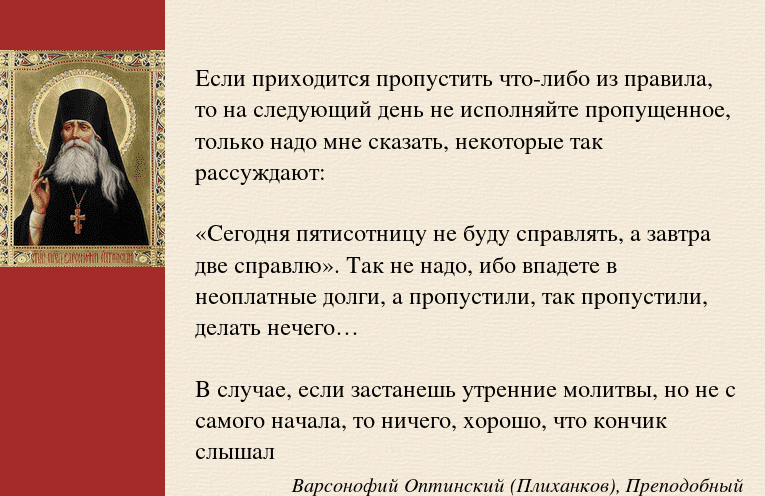 В двадцать первом веке неверие управляет сердцами и умами многих, хотя и не всех, людей, которых я знаю. То, что высвободило неверие, среди многих других сил, было идеалом истины. Если бы мой старый друг поддался собственному желанию поверить, он бы почувствовал, что предал себя.
В двадцать первом веке неверие управляет сердцами и умами многих, хотя и не всех, людей, которых я знаю. То, что высвободило неверие, среди многих других сил, было идеалом истины. Если бы мой старый друг поддался собственному желанию поверить, он бы почувствовал, что предал себя.
Вот где мы находимся сегодня, наследники как традиций утешения, так и столетий бунта против них. В какие утешения мы еще можем верить?
Утешение раньше было предметом философии, потому что философия понималась как дисциплина, которая учит нас, как жить и умирать. Consolatio был самостоятельным жанром в стоических традициях древнего мира. Цицерон был мастером искусства. Сенека написал три знаменитых письма, чтобы утешить скорбящих вдов. Марк Аврелий, римский император, написал свою Медитации в основном для утешения. Римский сенатор Боэций написал «Утешение философией» , ожидая смертного приговора от рук варварского царя в 524 году нашей эры. Эти тексты до сих пор остаются на курсах гуманитарных наук для студентов, но профессиональная философия оставила их позади.
Утешение также утратило свои институциональные рамки. Опустели церкви, синагоги и мечети, где мы когда-то утешали друг друга в коллективных ритуалах скорби и скорби. Если мы ищем помощи во времена страданий, мы ищем ее в одиночку, друг у друга и у профессиональных терапевтов. Они относятся к нашим страданиям как к болезни, от которой нам нужно излечиться.
Но когда страдание понимается как болезнь с излечением, что-то теряется. Старые традиции утешения были способны поместить индивидуальное страдание в более широкие рамки и предложить скорбящему человеку отчет о том, как индивидуальная жизнь вписывается в божественный или космический план. Такие рамки остаются доступными для нас и сейчас: еврейский Бог, который требует послушания, но чей завет со своим народом обещает, что он защитит нас; христианский Бог, который так возлюбил мир, что принес в жертву собственного сына и предложил нам надежду на вечную жизнь; классические римские стоики, обещавшие, что жизнь будет менее болезненной, если мы научимся отказываться от тщеславия человеческих желаний.
Можно предположить, что религиозные тексты — Иов, Псалтирь, Послания Павла, «Рай» Данте — закрыты для нас, если мы не разделяем веру, которая их вдохновила. Но почему мы должны пройти проверку веры, прежде чем сможем найти утешение в религиозных текстах? Обещание спасения и искупления может быть закрыто для нас, но не утешение, которое исходит от понимания, которое религиозные тексты могут предложить в моменты нашего отчаяния. Псалмы являются одним из самых красноречивых документов на любом языке о том, что значит чувствовать себя лишенным, одиноким и потерянным. Они содержат незабываемые описания отчаяния, а также возвышенные видения надежды. Мы все еще можем ответить на их обещание надежды, потому что Псалмы признают, на что нам нужна надежда.
Сегодня более влиятельной является традиция, формирующаяся в работах Монтеня и Юма, которые задавались вопросом, сможем ли мы когда-нибудь увидеть какой-либо великий смысл наших страданий. Эти мыслители выразили страстную веру в то, что религиозная вера упустила самый важный источник утешения для всех.%2BArt%2BInstitute%2Bof%2BChicago%2C%2BIl.jpg) Смысл жизни не в обещании рая и не в обуздании желаний, а в том, чтобы жить полной жизнью каждый день. Просто быть утешенным означало держаться за свою любовь к жизни такой, какая она есть, здесь и сейчас.
Смысл жизни не в обещании рая и не в обуздании желаний, а в том, чтобы жить полной жизнью каждый день. Просто быть утешенным означало держаться за свою любовь к жизни такой, какая она есть, здесь и сейчас.
Мы все еще можем слышать эти голоса из прошлого благодаря цепочке значений, сохраняемой на протяжении тысячелетий. Через восемьсот лет после того, как Боэций утешался, воображая мудрую госпожу Философию, посетившую его в темнице, Данте в изгнании из родной Флоренции прочитал « Утешение » Боэция, и это вдохновило его на мысль о путешествии, также в компании мудрой дамы. , из ада через чистилище в рай. Еще шестьсот лет спустя, летом 19 г.В 44 года молодой итальянский химик пробирался через Освенцим с другим заключенным. Пока они шли, итальянец вдруг вспомнил эти строки Данте: «Мы не рождены быть скотами. Мы люди, созданные для знания и добродетели».
Вот как живёт язык утешения — люди в экстремальных условиях черпают вдохновение друг у друга на протяжении тысячелетий. Утешение — это акт солидарности в космосе: быть рядом с скорбящим, помогать другу в трудную минуту; но это также акт солидарности во времени — возвращение к мертвым и извлечение смысла из слов, которые они оставили позади. Чувствовать родство с псалмопевцами, Иовом, Святым Павлом, Боэцием, Данте и Монтенем, чувствовать наши эмоции, выраженные в музыке Малера, значит чувствовать, что мы не застряли в настоящем. Эти работы помогают нам найти слова для того, что бессловесно, для переживаний изоляции, которые заключают нас в тишину.
Утешение — это акт солидарности в космосе: быть рядом с скорбящим, помогать другу в трудную минуту; но это также акт солидарности во времени — возвращение к мертвым и извлечение смысла из слов, которые они оставили позади. Чувствовать родство с псалмопевцами, Иовом, Святым Павлом, Боэцием, Данте и Монтенем, чувствовать наши эмоции, выраженные в музыке Малера, значит чувствовать, что мы не застряли в настоящем. Эти работы помогают нам найти слова для того, что бессловесно, для переживаний изоляции, которые заключают нас в тишину.
Помимо утешения, мы используем много других слов, когда сталкиваемся с потерей и болью.
Нас можно утешить, не утешая, точно так же, как можно утешить, не утешив. Комфорт преходящ; утешение непреходяще. Комфорт физический; утешение условное. Утешение — это аргумент о том, почему жизнь такая, какая она есть, и почему мы должны продолжать идти вперед.
Утешение противоположно смирению. Мы можем смириться со смертью, не получая утешения, и мы можем принять трагическое в жизни, не смирившись с ним. На самом деле мы можем утешаться своей борьбой с судьбой и тем, как эта борьба вдохновляет других.
На самом деле мы можем утешаться своей борьбой с судьбой и тем, как эта борьба вдохновляет других.
Таким образом, важнейшим элементом утешения является надежда: вера в то, что мы можем оправиться от потерь, поражений и разочарований и что время, которое нам остается, каким бы коротким оно ни было, дает нам возможность начать все сначала. Именно эта надежда позволяет нам даже перед лицом трагедии оставаться непоколебимыми.
В наши дни, чтобы жить надеждой, может потребоваться спасительный скептицизм по отношению к барабанному бою мрачных повествований, доносящихся до нас со всех медиа-порталов. В 1783 году, когда Британия только что потеряла свои американские колонии, а общественные дела были в смятении, Джеймс Босуэлл спросил Сэмюэля Джонсона, не «не огорчили ли вас, сэр, «несколько волнения» общественной жизни». Джонсон отреагировал самым величественным и пренебрежительным образом. — Это невозможно, сэр. Общественные дела никому не досаждают, сэр. Я никогда не спал на час меньше и не ел мяса ни на унцию меньше».
Сегодня мы можем воспринимать это как указание сохранять некоторое скептическое самообладание перед лицом нарративов, которые вторгаются в наше сознание и определяют время, в котором мы живем. Если в 1783 году Джонсон не мог потерять сон из-за потери Америки, то и в наше время было бы нелепо позволить собственной стойкости сломаться перед потоком публичных комментариев, предсказывающих экологический Армагеддон, крах демократии или разрушенное будущее. новыми язвами. Ни одну из этих проблем, какими бы устрашающими они ни были, не легче преодолеть, если верить в то, что они беспрецедентны.
В конце концов, утешение — это больше, чем просто способ почувствовать себя лучше. Серьезные потери заставляют нас усомниться в более широком замысле нашего существования: тот факт, что время неумолимо течет в одном направлении, и что, хотя мы все еще можем надеяться на будущее, мы не можем пережить прошлое. Серьезные перевороты заставляют нас считаться с тем фактом, что мир несправедлив и что в более широкой области политики и меньшем мире нашей частной жизни справедливость может оставаться жестоко недостижимой. Утешиться — значит примириться с порядком мира, не отказываясь от надежды на справедливость.
Утешиться — значит примириться с порядком мира, не отказываясь от надежды на справедливость.
Самое сложное то, что потери и поражения заставляют нас противостоять собственным ограничениям. Вот где утешение может быть труднее всего достичь. Перед лицом наших неудач мы склонны искать убежища в иллюзии.
Но в иллюзиях нет истинного утешения. Мы должны стараться, как сказал Вацлав Гавел, «жить по правде». Вот почему традиции утешения, выкованные на протяжении тысячелетий в европейской традиции, способны вдохновлять нас и сегодня. Чему мы научились, что мы можем использовать в эти темные времена? Что-то очень простое и очень правдивое: мы не одни и никогда ими не были.
Михаил Игнатьев является почетным ректором Центральноевропейского университета в Вене. Его последняя книга — Об утешении: в поисках утешения в темные времена .
Отрывок из книги Майкла Игнатьева «УТЕШЕНИЕ: найти утешение в темные времена». 1 Издается Metropolitan Books, издательством Henry Holt and Company в США и Picador в Великобритании. Copyright © 2021 Михаил Игнатьев. Все права защищены.
Издается Metropolitan Books, издательством Henry Holt and Company в США и Picador в Великобритании. Copyright © 2021 Михаил Игнатьев. Все права защищены.
Подпишитесь на Persuasion в Twitter, LinkedIn и YouTube, чтобы быть в курсе наших последних статей, подкастов и событий, а также обновлений от замечательных авторов из нашей сети.
И, чтобы получать такие статьи в свой почтовый ящик и поддерживать нашу работу, подпишитесь ниже:
1
ВНИМАНИЕ! распространение строго запрещено. Право на воспроизведение или передачу Произведения на любом носителе должно быть закреплено за правообладателем.
Искусство утешения | Квинт Курций
Квинт Курций Литература, Мысль Цицерон, consolatio, утешение, Плутарх, Сенека
Раньше существовал литературный жанр, называемый consolatio , или утешительное эссе. Это то, что один человек пишет другому в случае какой-то ужасной личной трагедии, например, потери любимого человека. Иногда (например, в случае с Боэцием) писатель просто писал ее для себя. Древние авторы признавали его формой ораторского искусства, но он уже давно вышел из моды.
Это то, что один человек пишет другому в случае какой-то ужасной личной трагедии, например, потери любимого человека. Иногда (например, в случае с Боэцием) писатель просто писал ее для себя. Древние авторы признавали его формой ораторского искусства, но он уже давно вышел из моды.
Такие записи могут принимать форму эссе, речей и даже писем. На самом деле мы не находим их написанными как формальные сочинения с конца эпохи Возрождения.
Это наша потеря, потому что я нашел consolatio отличным средством для поднятия настроения в темные моменты. Они действительно улучшают самочувствие. Это я могу сказать с уверенностью. Но такие вещи требуют большого мастерства, чтобы писать. Нужно найти тонкий баланс между сочувствием и поддержкой. Возможно, поэтому современные писатели сторонятся их. Для этого нужны философская глубина, нежность, сочувствие и широта понимания, которых сегодня не хватает многим писателям. Он также требует близости. Наша современная культура, несмотря на все ее претензии на обратное, является глубоко не интимная культура.
Ему нравится бомбардировать нас раздражителями, но он уклоняется от любой реальной эмоциональной связи. И со временем мы все немеем к чувствам других. Мы заботимся о себе, но очень мало заботимся о том, чтобы облегчить тяжелую утрату наших товарищей. Это еще не все. Наша культура поиска внимания не одобряет умение справляться с болью тихо и сдержанно. Люди теперь хотят поделиться своей болью со всеми остальными, часто самым неприятным и недостойным образом. Это ужасная черта массовой культуры. Стойкость стала утраченным искусством.
Рекомендую прочитать лучшие из утешительных эссе. Для меня лучшими являются сочинения Плутарха, Сенеки и Боэция. Я кратко расскажу о каждом из них.
Плутарх (46-120 гг. н.э.). Читатели уже знают, что я страстно почитаю Плутарха. Его произведения охватывают невероятный диапазон биографических и исторических тем. Кроме того, он был убежденным платоником и осыпал свои страницы философскими отступлениями, которые доставляли читателю удовольствие. Он был привилегированным аристократом, как и большинство древних писателей, но в своих произведениях смог достичь глубины зрелости и дальновидности, с которыми мало кто мог сравниться. Он был одним из самых мудрых из всех классических писателей.
Он был привилегированным аристократом, как и большинство древних писателей, но в своих произведениях смог достичь глубины зрелости и дальновидности, с которыми мало кто мог сравниться. Он был одним из самых мудрых из всех классических писателей.
Его утешительное сочинение жене было написано после смерти их совсем маленькой дочери Тимоксены. Его мудрость, сочувствие и перспектива очевидны в каждом предложении. Эти отрывки дают привкус целого:
Сначала каждый приветствует Горе в свой дом, а потом, когда оно успеет пустить корни и станет компаньоном и соседом по дому, оно уже не будет уходить, когда того желают жильцы. к. Поэтому ей следует сопротивляться на пороге и не пускать в цитадель посредством траурной одежды, стриженных локонов или других подобных знаков, которые, встречаясь с нами и глядя на нас ежедневно, делают наш дух мелочным, узким, ограниченным, неулыбчивым и робким. , так что он не имеет доли ни в веселье, ни в блеске, ни в добром совете, будучи так осажден и тяжело подавлен горем.
За этим злом следует пренебрежение телом и отвращение к умащению, омовению и прочему вниманию к человеку. Должно быть наоборот; смущенная душа должна сама получить поддержку от крепкого тела.
Вот еще:
Если вы жалеете малышку, потому что она ушла из жизни незамужней и бездетной, то опять-таки утешает вас знание того, что вы сами получили полную долю таких переживаний. Несправедливо придавать этим вещам большое значение для тех, у кого их нет, и низкое значение для тех, у кого они есть. Она прибыла туда, где нет беды; тогда нам незачем огорчаться. Почему мы должны огорчаться из-за нее, когда она сама не может испытывать никакой печали? Потеря сокровищ теряет свое жало, когда они достигают состояния, к которому жало больше не подходит. Только мелочей была лишена ваша Тимоксена, ибо все мелочи она знала и в мелочах находила удовольствие.
Сенека (4 г. до н.э. – 65 г. н.э.). Его утешениям, считающимся одним из лучших классических римских писателей, уделялось меньше внимания, чем его письмам и эссе стоиков. Но они все еще очень хороши. Они не такие интимные и личные, как утешения Плутарха, но все же являются прекрасными образцами жанра. Сохранились три: De consolatione ad Marciam, De consolatione ad Helviam matrem, и De consolatione ad Polybium .
Но они все еще очень хороши. Они не такие интимные и личные, как утешения Плутарха, но все же являются прекрасными образцами жанра. Сохранились три: De consolatione ad Marciam, De consolatione ad Helviam matrem, и De consolatione ad Polybium .
Утешение Ad Marciam , вероятно, было написано около 40 г. н.э. Сенека написал Марсии, дочери видного римского гражданина, по случаю смерти ее сына. Вот некоторые из его чувств [ Ad Marciam 7 ]:
Прошло уже три года, а твое горе еще не прошло. Он омолаживает себя и крепнет с каждым днем; и, оставшись там, он требует права остаться. Он считает неправильным уйти. Точно так же, как все пороки становятся частью нас, когда они длятся долгое время, если только они не подавляются твердо, как только они появляются, так и такое несчастье, и печаль, и самоистязание питаются этим видом подавленной ярости. Несчастье души со временем становится своего рода наслаждением. По этой причине я хотел прийти к вам о лекарстве от этого на самых первых его стадиях .
.. Я не могу теперь лечить такое глубоко укоренившееся горе, обращаясь с ним бережно; его надо раздавить. [ Non possum nunc per obsequium nec molliter adsequi tam durum dolorem; fragendus est ].
Боэций (480–524 гг. н.э.) Пожалуй, самым пронзительным из всех утешительных сочинений является сочинение Боэция. Я написал о нем целую главу в своей книге «Тридцать семь», в которой содержится подробная информация о его жизни, творчестве и судьбе. Когда-то он был придворным фаворитом остготского короля Теодориха, но потерял благосклонность драматическим образом. Его посадили в тюрьму и в конце концов казнили по сфабрикованному обвинению в заговоре.
Его Утешение Философии является одним из первых выражений средневекового разума. Она была написана, когда Боэций гнил в одной из темниц Теодориха и когда у него было достаточно времени, чтобы обдумать свою судьбу. Это не утешение, подобное тем, о которых говорилось выше; это скорее полноценный трактат о судьбе, надежде и спасении.
Цицерон (106–40 гг. до н. э.). Да, даже он написал утешение, и вы можете быть уверены, что я проглотил бы его, если бы мог. Но, увы, произведение не пережило разрушительного действия времени. По имеющимся у нас сведениям, он сочинил ее где-то около 45 г. до н.э. Он написал это для себя. Поводом послужила смерть его любимой дочери Туллии; эта трагедия чуть не свела великого человека с ума от горя. Мы знаем эту работу только в нескольких фрагментах, которые сохранились в трудах других авторов, главным образом Лактанция.
В истории consolatio Цицерона есть интересное дополнение. В 1583 году итальянский гуманист Карло Сигонио заявил, что нашел полную копию сочинения Цицерона. Сомнения тут же вызвали другие гуманисты, отметившие несходство в дикции произведения с дикцией известных произведений Цицерона. Сигонио обвинили в подлоге и мошенничестве, но дело так и не было улажено.
В 1999 году группа лингвистов с помощью методов компьютерной регрессии окончательно установила, что предполагаемая работа не принадлежит Цицерону.

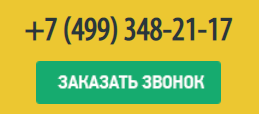
 За этим злом следует пренебрежение телом и отвращение к умащению, омовению и прочему вниманию к человеку. Должно быть наоборот; смущенная душа должна сама получить поддержку от крепкого тела.
За этим злом следует пренебрежение телом и отвращение к умащению, омовению и прочему вниманию к человеку. Должно быть наоборот; смущенная душа должна сама получить поддержку от крепкого тела. .. Я не могу теперь лечить такое глубоко укоренившееся горе, обращаясь с ним бережно; его надо раздавить. [ Non possum nunc per obsequium nec molliter adsequi tam durum dolorem; fragendus est ].
.. Я не могу теперь лечить такое глубоко укоренившееся горе, обращаясь с ним бережно; его надо раздавить. [ Non possum nunc per obsequium nec molliter adsequi tam durum dolorem; fragendus est ].