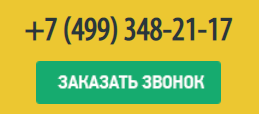Часы Владимира Познера. Какую марку часов носит Владимир Познер
«Гражданин мира» — определение, более всего подходящее для всемирно известного журналиста, теле- и радиоведущего, писателя (и даже ресторатора!) Владимира Познера. Космополитом его сделала жизнь и работа: страна рождения – Франция, пошел в школу в США – закончил ее в Восточной Германии, начал журналистскую работу в журнале «USSR» — продолжил ее на американских радиостанциях и телешоу. Он – везде и отовсюду: пишет, говорит, снимается, у него масса действующих проектов и не меньше грандиозных планов. Даже знаменитый первый телемост между СССР и США, где выяснилось, что в «Советском Союзе секса нет», вел Познер, которому на тот момент, между прочим, исполнилось 52.
«Поздняя слава» не дала развиться у лауреата 8 престижных премий ТЭФИ синдромам «звездной болезни»: знаменитый ведущий, как и раньше, знает цену слову, в меру ироничен, глядя на собеседника хитрым прищуром глаз поверх оправы своих очков. Его любимая фраза: «нет ничего дороже времени» — отражает внутреннюю философию, впрочем, косвенно касаясь давней привязанности Владимира Владимировича к часовой марке
«Я влюблен в эту марку!»
Познер откровенно выражает свои чувства к шедеврам от Jaquet Droz, тем более, что с этими часиками связаны наиболее приятные моменты в жизни. Одни — подарены телеведущему женой Надеждой Соловьевой, другие были выиграны их семейной парой на танцевальном конкурсе традиционного бала Bosco, третьи – подарены близким знакомым.
Владимир далек от мысли, чтобы подбирать часы к костюму или надевать их по ситуации. Просто поносив неделю одни, он подходит к другим со словами: «теперь очередь ваша!» — выражая, таким образом, теплую симпатию к каждому экземпляру. Видимо, иначе относиться к продукции Жаке Дроз нельзя: изысканной роскошью пронизано любое изделие этого бренда, ведущего традиции с середины XVIII века и покоривший Европу чудесами часового искусства. Основатель мануфактуры Пьер Жаке-Дро прославился своими невероятными механизмами, воплощенными в движущиеся фигуры – куклы-автоматоны, а также необычного дизайна часами, очарование которых воплощено в современных образцах.
Часы Владимира Познера Jaquet Droz Grande Seconde
Это, прежде всего, касается модели Jaquet Дроз Grande Секонд из коллекции Владимира Познера. Данный предмет часовой роскоши, изготовленный по дизайну карманных часов 18 века, также несет знаменитую и счастливую для дома Жаке Дроз «восьмерку» — разнесенные вверх-вниз по полю циферблата золотые стрелки часов-минут на «12» и отдельный секундный счетчик на «6». Прекрасные пропорции «ходиков», вложенные в 43 мм корпус из 18-каратного золота (толщина 11,48мм), элегантны и удобны для ношения на запястье. Визуальный минимализм дарит им способность быть одинаково традиционными и современными.
Великолепный белый циферблат, выполненный с техникой покрытия горячей эмалью Гранд Фю, подчеркивает изящество сдвинутого от центра верхнего счетчика со смешанными арабско-римскими метками, а также демонстрирует доминантность секундной шкалы на общем поле. Узкий безель мягко обрамляет это шикарное великолепие. Механический калибр с автоподзаводом, за работой которого также интересно наблюдать через заднее сапфировое стекло, обеспечит «тикалкам» уверенный 68-часовой запас хода. Удерживает Жаке Droz Гранд Seconde на запястье изящный ремешок из кожи аллигатора ручной работы.
Где остальные стрелки?!
Впрочем, Жаке Дроз бывает и необычным, — утверждает Владимир Владимирович, имея в виду очередной свой подарок — Гранд Heure GMT. Он в шутку жалуется, что по часикам затруднительно определить время: мол, там всего одна стрелка. Действительно, Grande Эре GMT в состоянии озадачить поклонника традиционного взгляда на часовой дизайн. Стрелок на самом деле две: одна золотая, вторая — из вороненой стали. Они идут по разграфленной на 24 сектора шкале суток с арабскими метками, и показывают данные времени двух часовых поясов – местного и общемирового (ГМТ). Это крайне удобно для путешественников, и, в частности для Познера, который всегда активно мотался между Старым и Новым Светом.
Владимир Познер в часах Жаке Дро Grande Heure GMT
В остальном модель близка к истокам – циферблат на 43 мм корпусе розового золота (толщина 11,85мм) покрыт эмалью оттенка «слоновая кость», здесь тот же минимализм и роскошь тщательно подогнанных деталей оформления – безеля и заводной головки. «Большой час» (в переводе Grande Heure) также может похвастаться водонепроницаемостью до 30 метров и запасом хода механизма с ротором из белого золота до 68 часов.
Лишь время имеет цену
Еще один познеровский «любимец» — Jaquet Droz Астрал Time Zone, — соединяет в себе качества и габариты двух предыдущих. К «восьмерке» из двух белых традиционных смещенных от центра счетчиков, на «9» добавился дополнительный – GMT времени, своей волнистой стрелкой сообщая владельцу данные по 24-часовой шкале. Верхний циферблат (тоже с данными ГМТ) напечатан черными римскими цифрами, нижний – арабскими, с 10-секундными маркерами. Поле главного циферблата черное, с эффектной отделкой «Кут дю Женев» («Берега Женевы»), а венчают его главные вороненые часовая и минутная стрелки, ведомые механическим калибром «живучестью» до 68ч без подзаводки. Текущую дату легко узнать в окошечке на «3».
Еще одна модель Жаке Дро в коллекции Владимира Познера — Jaquet Droz Astrale Time Zone
На полированном корпусе «Зоны Астрального Времени» из розового золота (750 проба) покоится узкий безель из того же материала с матовым верхом и полированными скошенными краями, зафиксированный винтами из вороненой стали. Браслет из крокодиловой кожи и золотой застежкой эффектно удерживают этот достойный предмет на запястье.
И все же, зарабатывающий $55 тыс в месяц Владимир Познер спокойно относится к дорогим вещам. Имея в детстве бюджет 25 центов в неделю, полученных от отца, он хорошо знает цену деньгам, но еще больше ценит время, которое нельзя притормозить и которое надо ежесекундно заполнять работой и новыми впечатлениями. И он, не без удовольствия, отслеживает его во время интервью по отложенным сбоку шедеврам от Жаке Дроз, от которых, и в самом деле, трудно оторвать глаза. Это подтверждает и каталог
Владимир Познер о времени, деньгах и Эйнштейне
– Владимир Владимирович, начнем с ваших самых первых часов.
– Это были папины часы, он мне подарил свои Longines, когда мне было 12 лет. Я их очень долго носил, сначала в Америке, потом в Германии…
– А потом, кажется, вы их потеряли?
– Их украли в раздевалке, где я спортом занимался. А потом у меня были наши часы «Полет», почему-то написанные через «j», Poljot, на немецкий лад. А вот первые «часы-часы» я очень поздно купил, в городе Нью-Йорке – Breguet. И это было связано с каким-то моим летием.
– Что, сами себе купили подарок?
– Нет, мне купили, но дали возможность выбрать. Изящные такие часы и совершенно без показухи. Они до сих пор у меня есть, и я их ношу. А потом мне Донахью купил часы, которые показывают время в двух поясах, потому что я много летал. Эти часы тоже сохранились. А потом мне Надежда Юрьевна (Соловьева – прим. ред.) подарила Jaquet Droz, которые мне очень понравились. А потом мы с ней вместе выиграли еще одни Jaquet Droz как победители танцевального конкурса на BOSCO Бале. И потом кто-то мне подарил еще одну модель Jaquet Droz – очень интересную, там на циферблате одна стрелка и все цифры от 1 до 24. По ним очень трудно определить время, но они такие необычные.
– Все свое богатство успеваете носить?
– Я их все ношу. Я не обижаю их. Я вообще люблю часы. И ручки. (Теребит в руках серебряную Montegrappa.)
– И у вас наверняка часы хранятся в специальной коробке?
– Да, и она сама их заводит.
– И вот собираетесь вы утром, подходите к коробочке и выбираете те часы, которые вам кажется – что? Подходят к костюму или к ситуации, в которой вы можете оказаться?
– Вы знаете, Алена, совсем нет. Я поношу одни часы неделю, а потом говорю каким-то другим: «Теперь ваша очередь». Такие у меня с ними личные отношения. И мне совершенно все равно, увидит их кто-то, идут они к костюму или нет.
– Вы встречаетесь с массой людей и разговариваете с ними, и тут из-за манжета появляются некие часы. Вы обратите внимание?
– Да.
– А если не видите, какая это точно марка, вы спросите?
– Скорее всего, нет. Я могу спросить, только если у моего хорошего приятеля появились новые часы. А внимание, конечно, обращаю. К сожалению, или нет, но у нас в России часы – это фактор статуса. И когда я вижу часы, которые громко об этом статусе заявляют, я делаю себе маленькую пометку.
– Какую же?
– Скорее, отрицательную. Я не люблю, когда человек выбирает часы, потому что они очень дорогие.
– Но ваши не то чтобы дешевые.
– Нет, это разные вещи. Вот эти часы Jaquet Droz, которые на мне сейчас надеты, предположим, могут стоить 20-25 тысяч долларов. А есть часы, которые стоят 100, 125 тысяч. Это очень сложные часы, с механизмом, который борется с притяжением. И у меня есть знакомые, которые именно так рассматривают часы: как предмет, который, так же, как автомобиль, говорит о статусе. Это, конечно, личное дело каждого, но я себе никогда не куплю такие часы. Не то, что я не могу их купить. Я могу! Вот подарить вам, например, с удовольствием! Но самому себе – неловко.
– Это особенность поколения?
– Может быть. Я все-таки из семьи с одной стороны – разорившейся аристократии, а с другой – русской интеллигенции. И как-то там всегда это было неловко.
– Вы с радостью расстаетесь с деньгами?
– Легко! Для меня деньги не имеют никакой цены кроме двух: независимость и некоторое удовольствие купить то, что ты хочешь: книжки, поехать куда-то. Я всегда поражаюсь людям, которые зарабатывают деньги, чтобы заработать деньги. А дальше что? Еще больше, еще больше. И? Где удовольствие? Оказывается, это и есть удовольствие преумножать.
– Когда вы начинаете свой эфир, вы всегда снимаете часы и кладете рядом с собой.
– Всегда. Я же в прямом эфире и должен успеть задать по крайней мере 90 % тех вопросов, которые хочу задать. И часы лежат под углом, чтобы я мог следить за временем.
– Разумеется, если бы они у вас были на руке, вы бы переводили взгляд…
– …и так нельзя делать! Это воспринимается человеком негативно, как сигнал: я спешу.
– А вы замечаете, когда так делают?
– Конечно, и всегда говорю: вы торопитесь?
– Вы меняете часы, следите за временем, считаете его по минутам, ненавидите, когда опаздывают. А вы вообще понимаете, что такое время?
– Я твердо знаю, что я не понимаю. У меня нет никаких иллюзий на этот счет. Я знаю, что время – это самое дорогое, что у меня есть. Что его нельзя остановить, его нельзя притормозить, и оно все время уходит, и этим надо пользоваться ежесекундно. И в этом смысле я, конечно же, экзистенциалист, я живу сейчас, сегодня, немедленно, потому что я не знаю, что будет через 30 секунд, через три секунды. И никто не знает. Неуловимая и для многих незаметная вещь, как ни странно. Но для меня играющая огромную роль в жизни, и я часто об этом думаю.
– В наших с вами беседах о литературе, театре, кино вы всегда отдаете предпочтение классике, оригиналу. К современным интерпретациям в изобразительном искусстве, кино относитесь скептично. Встретившись с вами на Венецианской биеннале, я увидела, как вы сидели в Садах на лавочке и читали книгу, даже не думая отправиться по павильонам. Почему?
– Знаете, был в XIX веке такой французский аристократ Алексис де Токвиль. Он был графом, сыном очень видных аристократов во Франции, и будучи еще совсем молодым человеком, задался вопросом: как получилось, что вот этот другой строй, который называется демократия, победил? Где это можно проверить? Он решил, что только в Америке. Это было в 1835 году, и он провел несколько месяцев в Америке, которая тогда была маленькая: без Запада, без Калифорнии. После этого он написал книгу «О демократии в Америке». Вероятно, одна из трех лучших книг, когда-либо написанных об этой стране. Он пришел к выводу, что да, эта система сильнее, потому что она берет все наши привилегии и раздает их широко всем. Но у нее есть один минус: европейцы-аристократы могли не работать, они самосовершенствовались: читали, учили языки, играли на инструментах, писали картины, ездили на лошадях, росли в большом смысле слова. А в Америке этого сделать не могут. Так вот, это наблюдение, на мой взгляд, относится и к современному искусству. Современное искусство, мне зачастую кажется, делается впопыхах, очень быстро. Чаще всего меня это не трогает: сердце не бьется, слеза не наворачивается, ночью не снится. Как правило, мне кажется, что меня на… калывают. А я этого очень не люблю. Знаете, когда-то давно меня спросили: что вы хотели, чтобы написали на вашей могильной плите, я ответил: «он не любил, когда его считали дураком».
– И постановки классики вы воспринимаете только в их строго временной интерпретации?
– Ну, если вдруг что-то попадется такое необычное, я в восторге! Например, в Театре наций видел постановку Боба Уилсона «Сказки Пушкина». Это современный театр? Да. Но как же это сделано! Восторг. И радует, и печалит. Но когда берут «Сирано де Бержерака», и в целях того, чтобы показать, что это современное прочтение, Сирано все время ходит в пижаме и без меча – я говорю: нет! Потому что для меня чрезвычайно важна эпоха. Я обожаю историю. Если бы была моя воля, я бы попросил, чтобы у меня была возможность пожить в десяти разных эпохах. Мне дико интересно, как они одевались, как двигались, вероятно, не так, как мы. Поэтому зачем осовременивать? Если вы слушаете оригинальный текст так, как его следует читать, и у вас не замирает сердце – это у вас проблемы.
– Вернемся во время настоящее, Владимир Владимирович. Для чего же оно придумано?
– Так это мы сами себе его придумали. Его нет в природе. И в то же время оно определяет абсолютно все. Мы разделили его на годы, месяцы, часы и минуты, чтобы каким-нибудь образом им управлять.
– У нас это хорошо получается?
– Если вдуматься, как Эйнштейн, то время – это что-то совсем другое и всеобъемлющее. Часы – это так, игрушка, хороший гаджет, благодаря которому мы понимаем, что договорились встретиться в определенное время. И я не могу вам не рассказать свой любимый анекдот об Эйнштейне, который я обожаю.
Вот он умер и, конечно, оказался в раю. И Петр его спрашивает:
– Какие просьбы у вас будут?
– С главным начальником можно увидеться?
– Пожалуйста!
Его Всевышний принял и говорит:
– У вас ко мне вопросы есть?
– Да, есть. Вы можете мне написать формулу, как вы все создали?
– Конечно.
– Напишите!
Всевышний взял мел и на доске начал писать. И пишет, пишет… Вдруг Эйнштейн говорит:
– Стоп! Там же ошибка!
Всевышний отвечает:
– Да. Я знаю…
Алена Долецкая для BoscoMagazine
Время Познера | Watch Russia
За свою карьеру вы встречались с огромным множеством различных людей. Кого из них запомнили больше всего?
Действительно, людей было много, и запоминались они по разным причинам. Разумеется, ключевой персоной стал Фил Донахью. Если бы в свое время он не пригласил меня делать с ним программу в Америке, моя журналистская жизнь сложилась бы по-другому. Как – не знаю, но иначе. Сегодня нас связывает нечто большее, чем профессиональные отношения – вот уже много лет мы встречаем вместе в Нью-Йорке Новый год.
Конечно, не могу не отметить Бориса Ельцина. Я делал с ним интервью еще в опальные для него времена, в 1989 году. Интервью запретили – уж очень Ельцин был хорош. Материал украли и показали в Свердловске и в Ленинграде. После этого Борис Николаевич позвонил мне и пообещал, что в случае возникновения проблем будет меня отстаивать. Вы знаете, люди такого уровня, как правило, не делают подобных вещей для журналистов. Когда же я был вынужден уйти из Гостелерадио, Ельцин, уже будучи президентом, предлагал мне возглавить его пресс-службу. Я, правда, отказался, но эти два случая о многом говорят в чисто человеческом плане.
Мой любимый литературный герой – Д’Артаньян, и я не возражал бы против того, чтобы служить с ним в мушкетерахЯ поддерживаю хорошие отношения и с Михаилом Горбачевым, которого очень уважаю. Люблю Михаила Жванецкого – что помешало мне сделать с ним хорошее интервью. Сильное впечатление произвела на меня Хиллари Клинтон. Оставили заметный след в моей жизни и малоизвестные люди. Например, я разговаривал в американской тюрьме в течение 45 минут с человеком, приговоренным к смертной казни, – никогда не забуду его лицо, глаза, то, что он тогда мне говорил. Брал интервью у потрясающего музыканта, гениального исполнителя Рэя Чарльза. Общался с удивительной личностью – Хью Хефнером, основателем Playboy. Накануне нашей с вами встречи записывал передачу с Борисом Гребенщиковым. БГ – необычайно интересный собеседник, удивительной внутренней наполненности.
Вы прежде всего политический журналист. Это было предопределено или получилось во многом случайно?
Просто я так устроен. Не могу сказать, что решение было твердым, откровенно говоря, вообще не собирался заниматься журналистикой, окончил биофак МГУ, физиолог по образованию. Но я – очень общественный человек, меня волнует то, что происходит в мире. Причем именно волнует, до переживаний. Нередко друзья надо мной смеются, когда я страдаю, оттого что в Африке голодают дети. Поэтому выбор именно политической журналистики был обусловлен моими внутренними убеждениями. Я не могу быть шоуменом или заниматься научной журналистикой, не представляю себя в глянце, хотя и не отрицаю его.
Вы родились во Франции, учились в США, жили в ГДР, теперь обосновались в Москве. Но что при такой пестрой географии вы считаете своей родиной?
Это слово имеет для меня два толкования: место, где ты родился, и место, где ты чувствуешь себя дома. Именно последнее определение я считаю наиболее глубоким и точным. Многое в жизни складывается из мелочей, подчас неуловимых, которые замечаешь, только лишившись их: окружение, люди, их манера общения. Мой дом – все же Франция. Моя мама – француженка, с детства быт был устроен на французский манер, мы говорили только по-французски. Помню, что всегда мечтал приехать в Советский Союз – так воспитал меня папа. И долгое время хотел быть русским. Выучил язык, давно живу здесь, но однажды наступил момент, когда отчетливо понял: я – не русский. Это не хорошо и не плохо. Просто я такой. На мой взгляд, русские похожи на ирландцев: подвержены крайностям, талантливы, любят выпить и подраться. Как сказал в разговоре БГ, русские очень хаотичны, поэтому так склонны к искусству. А я другой, более упорядоченный, структурный. Помню, как в 1957-м, во время Фестиваля молодежи и студентов, получилось так, что две недели я жил с американской делегацией. На тот момент я провел в СССР уже пять лет. И вдруг понял – это мои люди, они понятны мне. Мечтал уехать, но это было невозможно. Во время съемок документального фильма «Одноэтажная Америка» в какой-то мере заново открыл для себя эту страну. Затем был «Тур де Франс», и я окончательно пришел к выводу: мне хорошо во Франции. Но всегда будет не хватать другой страны: во Франции – Америки и России, в России – Франции и Америки… Причем, говоря «Америка», я имею в виду только Нью-Йорк. А во Франции мне хорошо везде.
Вы отлично выглядите и имеете неплохую физическую форму – можно ли вас назвать приверженцем здорового образа жизни?
Прежде всего – это гены. В моей семье были долгожители с папиной стороны: одна его сестра умерла в 93 года, другая – в 96. С маминой стороны одна сестра скончалась в 96 лет, другая – в 83. Благодаря маме я правильно рос: до 16 лет ложился не позже половины десятого, питался как положено, кроме того, всегда занимался спортом – это уже от папы. Сейчас трижды в неделю играю в теннис, мне это нужно для хорошего самочувствия и для экрана. В 1989-м бросил курить сигареты. Сейчас позволяю себе только полсигары в день. Выпиваю? Обязательно, но не по французским меркам – не бутылку вина в день, пореже, предпочитаю красное. Это важно. Так что, на мой взгляд, веду здоровый образ жизни.
Ваше участие в ресторанном бизнесе – способ попробовать себя в чем-то другом, отличном от журналистики, или вы просто любите французскую кухню?
Это не бизнес, это дань памяти моей матери. Помимо всех ее качеств, она удивительно готовила, чему научила и меня, и моего брата, благодаря ей мы разбираемся в еде и вине. Семь лет назад брат предложил открыть в Москве брассери (brasserie) – тип французского ресторана, что-то среднее между бистро и высокой кухней, – и назвать его в честь мамы «Жеральдин». Моя заслуга была в получении места для будущего заведения, а всю другую работу выполняет брат. Уверен, мама была бы рада.
Вы довольны своей жизнью? Хотели бы, имей шанс, что-то изменить? Например, выбрать для жизни другое время и место?
Считаю, мне на редкость повезло. Моя жизнь необыкновенно интересная и счастливая: в детях, друзьях, профессии. Конечно, есть много из того, что не сделано, о чем-то глубоко сожалею, что-то хотел бы поправить и изменить, но не принципиально. Люблю историю, поэтому иногда хочется жить в Древнем Египте, ведь это необыкновенно интересно, увидеть, как там все происходило. Или в Афинах во время расцвета демократии. А еще Древний Рим времен Цезаря и Августа. Хотел бы попасть в Италию времен Возрождения, но с условием, что смогу поговорить с Леонардо да Винчи. Мой любимый литературный герой – Д’Артаньян, который жил во Франции первой четверти XVII века, и я не возражал бы против того, чтобы служить с ним в мушкетерах.
Вернемся к профессии, как повлияет на журналистику развитие Интернета и высокотехнологичных коммуникационных устройств? Сегодня информацию получают и обрабатывают миллионы пользователей Twitter – и каждый становится журналистом?
Нет-нет. Журналистика – профессия. Каждый пишет – да, но не каждый – журналист. Ведь это особый образ жизни, мыслей, взглядов. Не думаю, что развитие Интернета сильно изменит профессию. В свое время говорили: кино убьет театр, Интернет убьет телевидение, а электронная книга – бумажную. Но ничего подобного не произошло.
Я – очень общественный человек, меня волнует то, что происходит в мире. Причем до переживаний. Нередко друзья смеются надо мной, когда я страдаю, оттого что в Африке голодают детиТелевидение дает шанс стать свидетелем того, что происходит в мире, – Интернет не дает вам такой возможности. Вы можете после события просмотреть его видео на сайте, снятое с одной камеры. Футбольный матч, интервью, но в Twitter вы не увидите глаз, лица. Единственное, с чем я согласен, электронная почта убивает эпистолярный жанр – письма стали лаконичные, безличные, написанные наспех.
Как вы для себя определяете время, его движение, его скорость?
Когда был маленьким, время тянулось невероятно медленно: когда же, наконец, мой день рождения, каникулы, Новый год? По мере взросления, а потом уже и старения время невероятно ускоряется. Ты не успел обернуться, а оно уже пролетело. Если взять область техники, то тут все еще более стремительно: каждые три-четыре года происходят принципиальные изменения. Скажем, люди в XVIII веке существовали в одной эпохе, а начиная со второй половины XX века они уже проживают несколько. Не меняется одно – сами люди, внутренне они точно такие же, какими были всегда.
Чем бы вы хотели заниматься в своей жизни кроме журналистики?
Я бы хотел быть художником, страстно люблю живопись, но при условии, что это занятие станет «моим всем». Но, увы, не умею рисовать, так же как, к сожалению, не умею играть на музыкальном инструменте. Сейчас «мое все» – это журналистика, в ней я себя нашел и очень этому рад.
Вы ездите по Москве на Jaguar. Почему вы выбрали именно этот автомобиль?
Все просто: компания Jaguar сама предложила мне их автомобиль. Первым был Jaguar Daimler: классические линии, очень красивые формы. На нем, кстати, ездит и королева Великобритании. Я просто обожал эту машину. Но согласно контракту через девять месяцев должен был сменить авто. Однако расстаться с моим первым Jaguar я так и не смог – купил его для жены. Теперь езжу на совершенно новой модели XJL. Вы знаете, даже несмотря на то что машина – неодушевленный предмет, с ней может возникнуть контакт. С моими Jaguar меня всегда связывали самые теплые отношения.
Владимир Познер: фото и интервью о стиле и отношениях с женщинами
Владимир Познер — не только самый стильный мужчина, но и самый человечный джентльмен. Мы встретились с ним, чтобы побеседовать о его стилистических предпочтениях (помните те желтые галоши?), а в итоге разговорились о женщинах и Ходорковском. Еще Познер продемонстрировал свой идеальный нью-йоркский выговор, перечислив по нашей просьбе все американские штаты.
При поддержке самого стильного автомобиля Mercedes-Benz C-Class
Гражданин мира, Владимир Познер и вкусом отличается абсолютно мультикультурным, таким, который признают в любой части света. Он приезжает на съемку в рубашке с контрастным воротником, рифмующимся платком в кармане пиджака и в красных носках и начинает свой рассказ: «Я был очень красивым молодым человеком, это правда, и пользовался успехом». С тех пор мало что изменилось, разве что успех Познера теперь измеряется не только числом покоренных дамских сердец, а еще и рейтингом программы «Познер» и единодушием, с которым редакция журнала признает его самым стильным из наших соотечественников.
GQ:
Владимир Владимирович, поздравляем, вы самый стильный мужчина года по версии журнала GQ.
ВП:
Спасибо. Не могу сказать, что мне неприятно. Это приятно и совершенно неожиданно.
— Когда вы приехали в Союз в начале 1950‑х, насколько сильно вы выделялись?
— Очень сильно. Я даже сам не знал, насколько сильно выделялся. Одет я был совсем не так, и не то чтобы даже лучше, а просто не так, по-другому. Подстрижен был не так, у меня тогда было много волос. Ходил не так, жестикулировал не так. Это все было очень заметно. Считал не так. Вот русские загибают пальцы внутрь, а американцы считают, разгибая пальцы: раз, два, три… Постепенно люди моего круга, люди, с которыми я общаюсь по профессии, в большей степени повернулись лицом к Западу, и порой стало трудно отличить русского от иностранца. Раньше сразу можно было сказать: ну, это советский! Не русский, а советский. Сейчас это не так, конечно. Только я бы сказал, что русские одеваются каждый день — опять же речь об определенном круге — гораздо моднее, чем одеваются в других странах. В Нью-Йорке или в Париже люди одеваются проще.
— А как вы впоследствии поддерживали свой стиль?
— Вы знаете, хотя я всегда любил хорошо одеваться, для меня хорошо – это то, что мне нравится. Я не слежу за модой. Правда, я выучил благодаря одной подруге моей жены некоторые названия, и я всегда спрашиваю, какие у нее туфли: Manolo Blahnik, Jimmy Choo или Louboutin? Это все, что я знаю!
— Что ж еще нужно.
— Ну «лубутены»-то я узнаю из-за красной подошвы. Но я никогда на моду как таковую не обращал внимания. Просто что-то мне нравится, и все. Я помню, Леня Парфенов, с которым у меня очень добрые отношения, делал фильм, когда мне исполнялось семьдесят лет. Он сделал совершенно замечательный фильм, который назывался «Ведущий». Мы много общались в ходе работы над фильмом, и как-то мы гуляли в Париже, потому что он снимал меня в разных местах. Я был в каких-то вельветовых брюках, и Леня сказал: «Вот сразу видно, что вы европейский интеллигентный человек». Он на это обращает внимание, вообще Леня хорошо одевается — как мне кажется, он модник. Я не модник. Хотя моя жена очень разбирается в моде, и я узнал от нее, что мне нравятся некоторые бренды. Раньше я и не знал.
— Это какие?
— Kiton мне нравится. Brunello Cucinelli. И еще Loro Piana. Все эти марки, оказывается, почему-то очень дорогие. Почему-то мне нравится дорогое, так получается. Еще есть туфли определенные, которые мне нравятся. Они довольно консервативные, John Lobb.
— Еще у вас есть галоши желтые. Они правда пахнут ванилью?
— Да, лоббовские. Я очень люблю такие галоши.
— А менялась ваша манера одеваться с течением времени?
— Сказать, что очень сильно, — нет. Помню, в детстве я терпеть не мог шерсть, шерстяные штаны, потому что они чесались. А так…
— У вас были когда-нибудь кумиры, на которых вы равнялись именно в области стиля? Хотели одеваться, как кто-то.
— Нет, никогда. У меня были кумиры, но это совсем другое. Д’Артаньян, например.
— Учитывая ваши непростые отношения с отцом, кто вас научил завязывать галстук?
— Папа, конечно. Он и подарил мне первый галстук (более того, это был папин собственный первый галстук), я до сих пор его храню. Он сказал: «Вот это мой первый галстук, Вова… — Он называл меня Вовой. — И вот как надо его завязывать». Он сейчас не модный, потому что очень узкий, но Hermès все-таки.
— А сколько вам лет тогда было?
— Четырнадцать.
— А когда вы вообще начали носить костюм, рубашку? Вряд ли в студенческие годы вы одевались консервативно и солидно.
— Моя мама, будучи абсолютно буржуазной дамой, французской, считала, что, когда идешь в театр или в оперу, нужно надевать костюм, рубашку и галстук. Я носил. Не каждый день, конечно, но у меня был костюм. И не один даже. Мама очень за этим следила. Я думаю, в том, что касается внешних проявлений, поведения — как сидеть за столом, как держать вилку, как пить, как одеваться, — это все мама. Все это вложила мама — очень неназойливо, но совершенно неотступно, так что потом это доходит до автоматизма. Сколько раз она мне, когда я был маленьким, говорила: «Не клади локти на стол» — сосчитать невозможно. Но я не кладу локти на стол.
— Давайте о женщинах поговорим…
— Ой, давайте!
— Влиял ли когда-то ваш вкус в одежде на успех у женщин?
— Не знаю. Иногда думаешь, что слова прозвучат нескромно, но один умный человек сказал: «Скромностью пускай украшаются те, кому нечем больше украшаться». Так вот, когда я был молодым, я был очень красивым молодым человеком, это правда.
— Ну в этом смысле мало что изменилось…
— Ну нет. И я пользовался успехом. При этом я был наивным и очень таким порядочным. Я считал, что только любовь и так далее. Думаю, что это было идиотством с моей стороны, и я об этом сильно жалею. Упустил столько замечательного в жизни, что просто ужас. Но тем не менее я всегда был в той или иной степени элегантен. И при этом еще есть такая вещь. Есть люди, которые умеют носить одежду, а есть люди, которые не умеют. Как мой папа говорил: «Сидит пиджак на нем, как на корове седло». На корове седло плохо сидит, знаете ли. Я хорошо ношу одежду. И наверное, это как-то привлекало. Но все-таки больше привлекает, мне кажется, сочетание других вещей. Я всегда говорю, что меня в женщине больше всего привлекает ум. Потому что если человек не умный, ну это совсем катастрофа. И даже если очень красивая, очень красивая!
— А как должна выглядеть женщина, чтобы произвести на вас впечатление?
— Ну, мне трудно вам сказать. Был такой поэт в первой четверти XVII века в Англии, его звали Джон Донн. Это знаменитейший поэт шекспировского времени, в молодости он был бретером, бабником и писал совершенно изумительные любовные стихи. Почему я его вспомнил, потому что в стихах он пишет о том, каких любит женщин, и оказывается — он любит всяких. Так же, как и я. И блондинок, и брюнеток, и рыжих, и не рыжих, и так далее.
— Считаете ли вы, что само понятие «джентльмен» изменилось с течением времени, с развитием феминизма?
— Конечно, конечно. Некоторые даже скажут, что в самом понятии уже есть дискриминация. Но я так не считаю, меня мама воспитала по-другому. Когда женщина входит в комнату, я встаю. И я даже не думаю, просто как пружина срабатывает, и все. Я всегда пропущу вперед, всегда уступлю место. Я на самом деле отношусь к женщинам лучше, чем к мужчинам, я считаю, что женщины более терпимы, менее агрессивны, более интуитивны и способны находить решения там, где мужчина будет драться. Хорошо, если бы было больше женщин во главе государств. А джентльменство — это выражение уважения. А если кто-то считает, что это выражение с моей стороны мачизма, ну пускай.
— Вы много путешествуете, а где вы больше всего любите покупать одежду?
— Не в России. Потому что здесь еще не научились продавать. Во Франции люблю очень. Там продавцы умеют продавать, я это обожаю — и так покажут вещь, и так, и с таким галстуком, и с таким. Я вообще очень люблю мастерство, во всем, французы им владеют. Еще итальянцы и англичане.
— У вас есть любимые вещи?
— Да, они старые, конечно. У меня есть две кожаные куртки, одна более зимняя, что ли, из довольно толстой кожи. Фирмы Etro. Она старая-старая. Вот я ее обожаю. И у меня еще одна куртка, она синяя-синяя, как летнее небо, очень красивая. Что еще… У меня есть любимые туфли, как ни странно. Я люблю хорошие туфли, сам их чищу, все. Когда я был пацаном и мы жили в Америке, мне давали карманные деньги, но за это надо было что-то делать по дому — накрывать на стол, вытирать посуду. А когда я сказал, что хочу больше денег, папа сказал, чтобы я нашел себе работу. И я нашел. Я разносил газеты, а как-то летом зарабатывал чисткой обуви. У меня была фишка, я говорил, что за одну минуту во время чистки смогу назвать все сорок восемь штатов. Тогда их было сорок восемь. А если не успею, тогда чистка бесплатно. И на это многие покупались.
— А сейчас можете?
— За минуту — нет. Могу, конечно, вспомнить, но не за минуту.
— Круто, понимаем людей, которые хотели чистить у вас ботинки. Почему все-таки русские так плохо одеваются?
— Знаете, тут надо помнить вот о чем. Была Россия до 1917 года, это была Россия, разделенная на очень небольшое количество аристократов, интеллигенции, купцов и массу крестьян, рабочих… Случилась революция. Одни люди уехали или их убили, и началась новая цивилизация. Мало кто понимает, мне кажется, какая это трагедия для России. В тот момент она потеряла себя навсегда. Такого уничтожения своего прошлого и всех своих традиций я больше нигде не видел. Пришли другие люди, в которых воспитывали презрение, ненависть — «а еще в шляпе, еще очки нацепил!» — и как раз внешний вид не имел никакого значения, кроме отрицательного. Это продолжалось очень долго. Потом уже, когда я приехал, через какое-то время появилась тяга к западному у молодежи, возникли стиляги. Постепенно это увлечение развивалось, но все-таки не было воспитания, традиции. Как всегда, русские женщины оказались на голову выше русских мужчин. Я это говорю не для того, чтобы вам льстить. Я считаю, что России невероятно повезло с женщинами и так же невероятно не повезло с мужчинами. И внешне, и внутренне. Женщины быстро адаптировались. Я же помню, какая это была серая, неинтересная масса на улицах и как в одночасье, вдруг, появилось столько красивых женщин — как одеты, сколько в них женственного. А эти как были охламоны, так они и есть. Я очень хорошо понимаю, почему русские женщины часто выходят замуж за иностранцев. Иностранец не лучше, может быть, но все-таки в нем что-то такое есть, чего нет в русских мужчинах. Они слабые. Русская женщина черт знает что может вынести: она детей воспитывает, она эти рыла пьяные на себе вытаскивает… Правда, это же так! Есть исключения, конечно. Видимо, только те, кому сегодня пятнадцать-шестнадцать лет, будут другими.
Владимир Познер с женой и другие звезды на юбилее часового бренда
18 октября в Петровском пассаже прошел ужин в честь 280-летия швейцарского бренда элитарных часов Jaquet Droz. Гостям мероприятия была представлена юбилейная экспозиция в атмосфере фантазийного сада.
Своими глазами увидеть элегантные часы поспешил Владимир Познер с женой Надеждой Соловьевой, Ирина Чайковская, Юлия Прудько, Михаил Куснирович и другие звезды.

Ирина Чайковская
Владимир Познер женат на Надежде Соловьевой, продюсере и основателе концертной компании, с 2008 года. Ради отношений с ней Познер ушел от второй жены Екатерины Орловой, в браке с которой прожил почти 40 лет. Пара редко выходит в свет, предпочитая держать свою личную жизнь в тайне от посторонних.

Основательница пиар-агентства June & July Юлия Прудько выбрала элегантное черное платье с оригинальным декором. Несмотря на похолодание, Юлия смело надела платье с открытыми плечами.

Миллиардер Михаил Куснирович остался верен своему деловому стилю: председатель совета директором группы компаний Bosco di Ciliegi продемонстрировал безупречный образ со строгим костюмом и, конечно же, часами швейцарского бренда.

Кристиан Латтман и Михаил Куснирович
«Для меня гораздо важнее найти себя»
– Владимир Владимирович, вы однажды рассказали такую удивительную притчу о журналисте, который разговаривал с рабочими на стройке храма, и когда он спросил у одного из рабочих, что он делает, тот ответил, что кладет кирпич, другой сказал, что роет яму, и только один, который подметал площадку, сказал, что строит храм. Вот хотелось бы спросить у вас об этом чувстве сопричастности, что мы все делаем большое дело…
Владимир Познер: Понимаете, можно сказать, что мы все делаем большое дело, а можно по-другому сказать, что я делаю свое дело. Вот, например, я кладу кирпичи, причем я их кладу так, как никто – это мое дело.
И эта притча, она относится к строительству собора в тринадцатом веке, но есть такая книжка, она была написана одним американским журналистом, он умер несколько лет назад, звали его Стадс Теркел, он жил в Чикаго, книга эта называется “Working” («Работая»). Это толстая книга, интервью с самыми разными людьми. И там есть, например, человек, занимающий высочайший пост, который ненавидит свою работу и только мечтает скорее уйти, и есть водитель автобуса, который говорит: «Так, как я вожу автобус – никто не водит», то есть он нашел себя. И вот этот рабочий из притчи, который говорит, что строит храм, при том, что он просто подметает – он нашел себя в этой работе.
Поэтому я бы тут не стал говорить, что мы делаем одно общее дело, хотя я не против, но для меня гораздо важнее найти себя, то, что было написано на кольце у Соломона, кажется. Найти себя, для чего я.
Вот в «Винни-Пухе» Тигра все никак не понимает, что ему нравится. И мед не нравится, и желуди не нравятся, и наконец, когда он попробовал рыбий жир, он вздохнул и говорит: «Ах вот что любят Тигры». Так вот я это имею в виду, найти себя. Я считаю, что это самое главное.
И это может быть, между прочим, в том, как ты воспитал детей и каких они добились успехов, какие они люди в результате твоего воспитания. То есть это не обязательно работа в самом прямом смысле этого слова и это относится и к матери и к отцу.
«Я никогда не сталкивался с таким народом»
– Владимир Владимирович, какие у вас остались впечатления от Японии и от самих японцев, которые там проживают? Можете ли вы сделать о них какой-то вывод, как это было в фильме «Еврейское счастье», в последней серии, где вы сравнили евреев с алмазом, который является хрупким, но в то же время самым прочным предметом?
Владимир Познер: Ну фильм еще не вышел и не скоро выйдет, скорее всего осенью. Могу вам только сказать, что, конечно, это был самый трудный для нас фильм, потому что все-таки все остальные страны, о которых я делал фильмы, основаны на одной общей культуре, иудейской-христианской культуре. И поэтому они понятней, они ближе.
Япония – это другое во всем. Причем люди это говорят и зачастую они сами не понимают, насколько это другая страна и другие люди.
Мы там снимали два месяца, в апреле и мае, а потом в октябре и ноябре. И после первого месяца у меня было ощущение, что надо «закрыть контору» и все, не надо было браться. Я был абсолютно – не то что разочарован страной, а тем, что я ничего не могу понять и что интервью не получались, я не мог никак наладить разговор. И только во время второго месяца вдруг произошел прорыв и я стал что-то понимать, и я очень прикипел к этой стране.
Я не хотел бы там жить, потому что неприятно жить там, где ты вытарчиваешь, где ты не можешь никак слиться, ты все равно чужой, ты иностранец. А в Японии иностранец – это особая статья, это не то что иностранец в России, во Франции и так далее, это совсем другое.
Но это совершенно поразительная страна, поразительный народ. Я могу сказать, что я никогда не сталкивался с таким народом. Когда я говорю, что японцы не врут, вы можете подумать, что я преувеличиваю, но они не могут врать, культура так сложилась, что врать – невозможно.
Ну и насчет того, насколько они разные. Когда японец говорит «спасибо», ну так переводится, на самом деле, как объясняют японцы, это означает не спасибо, это означает «ох, как мне тяжело». Почему? Потому что если я тебе говорю спасибо, значит я тебе благодарен, значит я тебе должен, значит я должен вернуть тебе этот долг. В масках они ходят не потому, что плохая экология, – они оберегают другого человека от своих микробов. Все не так. И вот это, я надеюсь, мы сумеем показать.
Ну и, как мне показалось, когда ты уже хоть чуть-чуть «свой», потому что стать совсем «своим» в Японии нереально, – ты встречаешь совершенно поразительное отношение.
Я там разговаривал с одной женщиной, редкий случай, которая хорошо говорит по-английски, потому что она в детстве жила в Англии, потом работала. Ей лет семьдесят. Очень строгая. Я спросил: «Скажите, ведь правда, что вы нас считаете варварами?», она задумалась ненадолго и сказала: «Да. Но только мы это слово по-другому понимаем. Мы это понимаем как – неуклюжие. Вы громко говорите, вы кричите, размахиваете руками, хлопаете дверьми, вы можете ноги положить на стол. Вы как слон в посудной лавке. В этом смысле мы понимаем слово «варвар», а вы-то понимаете совсем по-другому».
Что у нас получится с этим фильмом, я не знаю, но это было невероятно интересно. Я, конечно, опять поеду в Японию когда-нибудь. И главное, если вы едете туристом, то вы мало что увидите и поймете, но ничего не поделаешь.