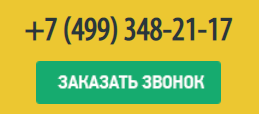«Маршак – совершенно уникальная фигура»
Я упоминал, что, учась на пятом курсе МГУ, женился на Валентине Чемберджи, студентке пятого курса классического отделения филологического факультета; спустя два года родилась наша дочь Катя. Как и подавляющее большинство молодоженов в стране социализма, мы не имели своего жилья и должны были сделать выбор между квартирой моих родителей или ее матери. Тридцать лет тому назад проблема жилья стояла столь же остро, как и сегодня. Меня всегда поражает, что серьезные люди в России удивляются большому количеству разводов и пожимают плечами, если просишь их объяснить причины такой ситуации. Я не сомневаюсь, что именно квартирный вопрос фигурирует среди главных причин… Итак, я переехал в квартиру матери Валентины, Зары Александровны Левиной, известной талантливой пианистки и композитора.
Как описать Зару Левину? Я назвал бы ее явлением природы, своего рода Антеем, она, как и он, черпала свою силу из Земли, жила так, как ей подсказывало собственное нутро – и только. Ела, когда хотелось есть, спала, когда хотелось спать, и совершенно игнорировала так называемые общепринятые нормы и правила поведения. У нее были белые, крепкие зубы (не знаю, ставила ли она за жизнь хоть одну пломбу) и волосы, подобные львиной гриве – густые, блестящие, необыкновенно красивые. Она выглядела так, словно только что вышла из самого модного салона красоты – при этом утром раза два проходилась расческой по волосам. Она отличалась необыкновенной гибкостью, хотя и была в теле (ко всем диетам Зара Александровна относилась с плохо скрываемым презрением, равно как и ко всем «можно» и «нельзя») и двигалась легко и грациозно. Спотыкаясь или падая, что бывает со всеми, она почти никогда не ушибалась, не говоря о переломах, потому что падала так, как падают кошки или обученные каскадеры – не напрягая мышц, расслабленно. Она олицетворяла собой типичного рассеянного профессора. Так, например, могла засунуть свои очки в холодильник вместо масла, а потом провести большую часть дня в их поисках, тихо кляня недоброжелателей, которым нечего делать, кроме как прятать ее несчастные очки. Однажды в тот момент, когда она ела бутерброд, раздался телефонный звонок. Зара Александровна схватила трубку, приложила бутерброд с колбасой к уху и сказала: «Слушаю».
В ней сочеталось все. Она могла быть обворожительной и необыкновенно смешной, но могла быть и абсолютно невыносимой. Она была подозрительной, страстной, эгоцентричной, высокомерной, непредсказуемой, несправедливой; а также доброй, щедрой, преданной, открытой – словом, настоящий коктейль. Но прежде всего и главным образом она была талантливой. И именно благодаря ей, прочитавшей без моего ведома некоторые мои пробы пера в области перевода и передавшей их Самуилу Яковлевичу Маршаку, я познакомился с этим корифеем поэтического перевода и детской литературы.
***
Я проработал у Самуила Яковлевича два с половиной года и ни разу не слышал от него ни одного слова о том, что его первые поэтические опыты были связаны с увлечением сионизмом. Он мне рассказывал, что выдающийся русский критик В.В. Стасов познакомил его со Львом Толстым, что все тот же Стасов оказывал ему, еще совсем юному поэту, всяческую поддержку, но при этом не упомянул, что первое его опубликованное стихотворение, получившее горячее одобрение Стасова, называлось «Двадцатого Таммуза» и посвящалось смерти основоположника идей сионизма Теодора Герцля в 1904 году (Маршаку было семнадцать лет). Оказалось, что вплоть до 1920 года тема трагедии израильского народа являлась основной в творчестве поэта, а потом… А потом она исчезла. Не трудно догадаться, почему, учитывая разгул санкционированного антисемитизма в Советском Союзе и введение паспортов с пресловутым «пятым пунктом». Я даже не могу себе представить, что думал и чувствовал Маршак, когда развязали кампанию против «безродных космополитов» (читай: евреев), расстреляли всю головку Еврейского антифашистского комитета, затеяли дело врачей… Порой вспоминаю замечательные строчки из его стихотворения «Цирк»:
По проволоке дама
Идет, как телеграмма.
Какой же эквилибристикой должен был заниматься Самуил Яковлевич, чтобы ни разу и нигде ничего не написать о «главном друге детей» Сталине, но находить блестящие, на мой взгляд, патриотические слова:
Бьемся отчаянно,
Рубимся здорово!
Дети Чапаева,
Внуки Суворова.
Чем больше я думаю над его вынужденным молчанием о том, что, возможно, было ближе всего его сердцу, тем мне очевидней: Маршак – не просто выдающийся детский писатель, переводчик и поэт, Маршак – совершенно уникальная фигура, по сей день не в полной мере понятая и оцененная в собственной стране.
***
Маршак прославился прежде всего своими переводами из Роберта Бернса. Можно спорить о том, насколько эти переводы точны, насколько они близки к оригиналу. Но вот о чем спорить невозможно, так это о том, что только благодаря Маршаку Бернс стал русским поэтом, вернее, частью русской культуры. Помимо Бернса Самуил Яковлевич переводил и множество других поэтов, в том числе английских (Шекспира, Китса, Шелли, Блейка, Киплинга и т.д.). Маршак стал при жизни классиком, так что вы можете представить себе мое возбуждение, когда однажды у меня дома раздался телефонный звонок:
– Владимир Владимирович? – Голос был женский, старушечий, скрипучий.
– Да.
– Я звоню вам от Самуила Яковлевича Маршака. Он хочет, чтобы вы пришли к нему.
Я совершенно обалдел.
– Алло?! Вы слышите меня?
– Да, извините, а как вас зовут?
– Розалия Ивановна, хотя это не имеет значения. Так вы придете?
Приду ли я на зов Маршака? Да все злые силы мира не смогли бы остановить меня! Маршак жил на улице Качалова, напротив Курского вокзала. Дверь мне открыла та самая Розалия Ивановна, как я потом узнал, рижская немка, которой было хорошо за семьдесят и которая большую часть своей жизни служила Маршаку экономкой.
***
Я так и не узнал, каким образом эти два ни в чем не похожих друг на друга человека встретились, однако узнал вот что: Самуил Яковлевич спас Розалии Ивановне жизнь, когда началась война. Он каким-то образом вывез ее из Риги и устроил у себя в Москве.
***
Она никогда не улыбалась, была всегда и всем недовольна, но в особой степени была недовольна Самуилом Яковлевичем, о чем извещала желавших и не желавших слышать об этом своим высоким скрипучим голосом. Между ними установились отношения, которые по Фрейду назывались бы «любовь/ненависть», но не имели даже оттенка отношений между мужчиной и женщиной. Розалия Ивановна являлась свидетелем всех его триумфов и бед – кончины жены, смерти от туберкулеза любимого младшего сына-математика, двадцатилетнего Яши. Она знала его насквозь и считала своим долгом быть его поводырем, чтобы он не сбился с пути истинного. По-моему, он был глубоко к ней привязан, но вместе с тем его страшно раздражали ее назидания и приставания. Оба они отличались вспыльчивостью, и я не раз становился свидетелем сцен вполне безобразных с оскорблениями и обзыванием. Бедная Розалия Ивановна безнадежно проигрывала ему в этих состязаниях. Она отдавала себе в этом отчет и поэтому упорно, точнее, с тевтонской последовательностью, повторяла одно и то же заклинание: «старый дурень». Она говорила эти слова вновь и вновь, а он отвечал ей творчески: «Мадам Прыг-Прыг», «Гитлер в юбке», «Недописанная трагедия Шекспира»…
Впрочем, все это я узнал позже. В тот же первый день, помню, меня потрясла библиотека Маршака. Я никогда не видал такого количества книг. Они были повсюду, занимали все стены от пола до потолка, стояли стопками на столах, царили, завоевав и подчинив себе пространство. Пока я глазел, из своего кабинета вышел мне навстречу Маршак. Я хорошо знал его по фотографиям, которые печатались в газетах и журналах, и ожидал увидеть довольно полного и крепкого мужчину среднего роста. Увидел же человека совсем маленького – не выше ста шестидесяти пяти сантиметров – и почти тщедушного. И на этом тщедушном теле восседала крупная львиная голова. Из-за толстых стекол очков меня внимательно разглядывали маленькие серо-зеленые глаза. Они смотрели с любопытством, но потом я узнал, что они могли быть и с хитринкой либо со смешинкой, а иногда даже полыхали гневом. Когда Самуил Яковлевич сердился, у него раздувались ноздри, и воздух выходил из них с таким свистом, что я ожидал увидеть вслед за этим пламя, как у настоящего дракона. У Маршака были необыкновенного размера уши – большие, в морщинках, как у слона. Мне казалось, что на ощупь они должны быть теплыми и шершавыми – не раз я хотел дотронуться до них, но так и не набрался смелости… Лицо его испещрили следы старости – оно и в самом деле напоминало мне морду слона. Мудрое, милое лицо.
Поздоровавшись со мной, Самуил Яковлевич сказал, что прочитал мои переводы, что у меня есть определенные способности, однако мне еще надо многому научиться, много потрудиться. И вот, сказал он, если я соглашусь стать его литературным секретарем (то есть отвечать на письма, которые он получал, по-английски и по-французски, а также записывать под диктовку его ответы на письма русские), то он готов позаниматься со мной, научить меня кое-чему и, если я окажусь того достоин, помочь мне напечататься. Я был в полном восторге и тут же согласился.
Это была моя аспирантура в самой привилегированной школе мира. Я находился в постоянном контакте с культурным динозавром, с представителем вымирающего рода. Ведь детство и отрочество Маршака прошли в дореволюционной России. Его мальчишкой Стасов представил Льву Толстому. Он учился в Лондонском университете и, вернувшись, общался с иконами Серебряного века. Он пережил революции семнадцатого года, был свидетелем потрясений мира искусств и литературы, которые породили неслыханную череду великих писателей, драматургов, режиссеров театра и кино, художников и архитекторов.
Первые два с половиной десятилетия русского двадцатого века напоминают ослепительный карнавал, и небеса над ним освещены невиданным по яркости фейерверком. Каждый огонек – фамилия, которую любая страна с гордостью приписала бы себе: Ахматова, Блок, Цветаева, Есенин, Маяковский, Сутин, Шагал, Кандинский, Петров-Водкин, Филонов, Серебрякова, Лисицкий, Татлин, Эйзенштейн, Вертов, Таиров, Мейерхольд, Вахтангов, Станиславский, Мандельштам, Зощенко, Булгаков, Прокофьев, Шостакович – бесконечный список гениев, поразивших мир своими открытиями. Кто знает, как и почему происходят такие извержения талантов? Отчего это случилось в Англии времен королевы Елизаветы?
Что стало причиной Возрождения в Италии? Как объяснить золотой век Древней Греции? Из-за чего Рим оказался Римом? Какие закономерности привели к рождению великой литературы Франции? Мы не знаем этого и, даст бог, никогда знать не будем. Но какое же счастье – присутствовать при сем! И Маршак познал такое счастье.
Он же стал свидетелем уничтожения этого великолепия в сталинские годы, обезглавливания интеллектуального и художественного сообщества страны. Все это он видел, и память его хранила бесконечно много.
Познер Владимир Владимирович
Известный советский и российский тележурналист.
Владимир Владимирович родился 1 апреля 1934 года в Париже, в семье еврейского эмигранта из России Владимира Александровича Познера и француженки Жеральдин Лютен. Был назван Владимиром в честь отца. До 15 лет Володя учился в специальной школе для детей немецких политэмигрантов, бежавших от Гитлера в СССР, а после войны, по возвращению в ГДР, окончил восьмой и девятый классы.
В 1938 году Владимир Александрович Познер работал в европейском филиале кинокомпании «Metro-Goldwyn-Mayer». После оккупации Франции немецкими войсками в 1940 семья бежала в США. Здесь Владимир Александрович работал в отделе фотографии военного департамента США. В 1945 году у Познера родился брат — Павел.
После войны Познером-отцом заинтересовалось ФБР, и в 1949 году он был вынужден уехать из США. Сначала Познеры хотели вернуться во Францию, но им отказали во въезде, так как сочли главу семьи подрывным элементом. Тогда Познеры переехали в Берлин, где Владимир Александрович получил должность в компании «Совэкспортфильм». В 1952 семья переехала в СССР. В 1953 году Владимир Владимирович поступил на биолого-почвенный факультет МГУ и окончил его в 1958-м.
После окончания университета он начинает зарабатывать научными переводами с английского и на английский. В 1959 г., в год после окончания университета, Познер устроился литературным секретарем к известному поэту Самуилу Яковлевичу Маршаку. В печати стали появляться некоторые его прозаические и поэтические переводы.
Стоит отметить, что у Маршака от знакомства с молодым Познером остались, мягко говоря, смешанные чувства. Хотя сам Владимир не любит вспоминать эту историю. После кропотливого труда Познеру удалось, наконец, сделать переводы целых четырех стихотворений, с которыми честолюбивый «ученик», получив одобрение учителя, тут же помчался в журнал «Новый мир». Но в редакцию журнала Познер прибыл уже с восемью переводами. Ещё четыре были просто выкрадены из стола Маршака. Воровство стало известно Маршаку, и Познер был вынужден искать другую работу. «Конечно, я схулиганил, но получил большое удовольствие», — говорит Познер.
В октябре 1961 года Владимир поступил на работу в Агентство Печати «Новости», тесно связанное с КГБ, а затем перешел на работу в Комитет по телевидению и радиовещанию в качестве комментатора главной редакции радиовещания на США и Англию в программе «Голос Москвы».
В 1967 году Познер вступил в КПСС. И до конца 1985 года ежедневно вел свою радиопередачу на английском языке. Наибольшую известность у советских и американских телезрителей приобрёл в качестве ведущего телемостов СССР — США. В 1985 году вместе с Филом Донахью был ведущим телемоста Ленинград — Сиэтл, где обсуждались такие вопросы как положение евреев в СССР и сбитый корейский самолёт. В 1986 году В.В. Познер стал ведущим телемоста — Ленинград — Бостон («Женщины говорят с женщинами»). Это был дебют Познера на Советском телевидении. В 1986 году Познер стал лауреатом премии Союза журналистов СССР.
С 1990 по 1991 годы в США были изданы две книги Познера: автобиографическая «Parting With Illusions» и «Eyewitness: A Personal Account of the Unraveling of the Soviet Union» — о распаде СССР.
В 1991 году Владимир вернулся в США. В начале 90-х часто появлялся в американском эфире в «Phil Donahue Show». Также постоянно летал в Москву на запись программ «Мы» и «Человек в маске».
В 1994 году был избран президентом Академии Российского Телевидения и возглавлял ее до 26 октября 2008 года.
С 1997 года Владимир живёт в Москве. До 2006 года вел радиопрограмму «Давайте это обсудим» на радиостанции «На семи холмах». В 1997 открыл в Москве «Школу телевизионного мастерства» для молодых региональных журналистов. Директором школы стала Екатерина Орлова — вторая жена Владимира Познера.
«Я работал у Маршака, когда судили Бродского, я хорошо помню его возмущение»
Владимир Кравцов: Доброго дня, Владимир Владимирович. Не так давно любители поэзии отмечали, да и не только, отмечали 75-летие со дня рождения Иосифа Бродского. Были ли Вы с ним лично знакомы? Увлекались ли его поэзией? Как относились тогда к его преследованию, суду над ним, его ссылке и дальнейшей эмиграции? Думаете ли Вы о том, почему люди не приемлют то, чего не понимают, при этом не делая никаких попыток разобраться, вникнуть в суть вопроса (не обязательно связанного с поэзией)? Если да, то чем Вы это объясняете? Спасибо Вам за ответы.
Владимир Познер: Нет, лично с Бродским я знаком не был и поэзией его сильно не увлекался никогда. Читал и читаю, но это не «мой» поэт. Я работал у Самуила Яковлевича Маршака, когда судили Бродского, я хорошо помню его возмущение, помню и то, что он получил записи, сделанные во время процесса Вигдоровой, был в страшном гневе от того, что творилось, и был очень высокого мнения о Бродском-поэте. Что до меня, то считаю, что преследовать человека за «тунеядство» – это варварство. Вообще, преследовать поэта нельзя – ни за стихи, ни за высказанные убеждения. Хотя в России ВСЕГДА преследовали своих самых гениальных поэтов – и Пушкина, и Лермонтова, и Блока, и Ахматову, и Цветаеву, и Мандельштама, и Маяковского, и Пастернака, и, конечно, Бродского. Кого ссылали, кого доводили до дуэли, кого до самоубийства, кого сажали… Это позор как России царской, так и России советской. Слава богу, что мы дожили до времен, когда это в прошлом. К эмиграции я отношусь нормально – хочет человек уехать, пусть уезжает, это его право. Но невозможно согласиться с насильственной эмиграцией, когда человека выбрасывают из страны и лишают гражданства.
Если человек не понимает, например, поэзию Маяковского, как может он принять ее? Он может либо сказать «Мне поэзия Маяковского не понятна, но это ничего не значит. Ведь кому-то она понятна». Другой скажет: «Раз мне не понятна поэзия Маяковского, значит, она никому не понятна, ее надо запретить». Все зависит от уровня развития человека, его воспитания, его родителей, школы, наконец, общества, в котором он живет. Понимаете, если я не понимаю, скажем, Шостаковича, то мне трудно признать, что другой его понимает, мне обидно, как это так, он понимает, а я – нет? Такого быть не может, значит, он притворяется, или вся эта музыка – сплошной обман. Так рассуждают многие – и не только у нас, это явление общее.
Олег: Хотелось бы узнать, есть ли место на Земле, где вы еще не бывали, но очень хотите его посетить?
Владимир Познер: Да, конечно есть. Во-первых, черная Африка с джунглями, дикими животными, племенами. Во-вторых, Бразилия, Аргентина. Есть и другие места, но эти у меня во главе списка.
Топчий Александр: Владимир Владимирович, ответьте пожалуйста, почему в Америке, в стране, где многие годы было рабство, нет музея рабства???… Ведь ту трагедию, которая произошла с афроамериканцами, можно поставить вровень с трагедией Второй Мировой войны или с пострадавшими в ГУЛАГе…
Владимир Познер: Не могу знать, как говаривали. Музей-то создается не потому, что была трагедия, а для просвещения, образования, понимания искусства, истории. Почему в России нет музея крепостного права? Или татаро-монгольского ига? Тоже ведь события, сильнейшим образом повлиявшие на Россию и на русских.
Михаил Устименко: Владимир Владимирович! Вы как-то сказали, что распад империи – это всегда очень тяжело! СССР и Россия пережили это с огромным трудом! Как Вам кажется, Соединенные Штаты, которые тоже можно назвать своеобразной империей, смогут ли пережить потерю своего влияния в мире? И как это скажется на внутренней атмосфере и стабильности в американском обществе?
Владимир Познер: Я – не мастер предсказывать. Могу лишь сказать, что, строго говоря, США вовсе не империя. Тем не менее, Вы правы в том, что американцы несомненно очень тяжело переживут потерю своего влияния. К чему это приведет – не знаю. Но ведь это происходило со многими, в частности, с англичанами, которые в XIX веке обладали даже большим могуществом и влиянием в мире, чем американцы в ХХ. И ничего. Пережили.
Рустам: Уважаемый Владимир Владимирович, когда-то вы сказали: «Я спрошу бога, как вам не стыдно?». Эта фраза поразила многих в нашей стране, в том числе тех, кто не относит себя к религиозному сообществу.
Совсем недавно, после встречи с Вами, Стивен Фрай дал интервью, где заявил: «Рак костей у детей? Это как вообще? Как тебе не стыдно? Как ты смел создать мир, где есть такие страдания, которых мы не заслужили? Это неправильно! Это чистое, чистейшее зло. Почему я должен уважать капризного, злобного и глупого бога, создающего мир, в котором так много несправедливости и боли?».
Как Вы считаете, это высказывание – результат общения с Вами или проявление какой-то новой европейской политической идеологии?
Владимир Познер: Браво, Стивен Фрай! Конечно же, его взгляд никак не связан с тем, что говорю я. Фрай – блестящий, самостоятельно мыслящий человек. Его слова – как и мои – говорят об очевидном понимании того, что либо бог на самом деле капризный, злобный и глупый, либо его вовсе нет. К политической идеологии это не имеет никакого отношения, и нет ничего нового в этом взгляде, он существует много веков, но когда-то Церковь за такие слова сжигала людей живьем. Сожгла бы и сейчас, если бы могла…
Задать вопрос Владимиру Познеру
О работе у Маршака и о собственном некрологе
Вопрос: Здравствуйте, меня зовут Андрей, я хотел бы задать вам два вопроса.
Первый вопрос: в вашей биографии есть такой факт – вы работали литературным секретарем у Маршака. Как я понимаю, он был тогда уже очень известным писателем, а вы были просто выпускником вуза. Сейчас вы очень известный журналист. Готовы ли вы сейчас взять к себе помощником, секретарем или кем угодно – на общественных началах.
Второй вопрос может быть покажется грустным. На каждого известного человека печатается некролог. Заранее. Мы помним, как появилась Нобелевская премия.
Был такой человек – Альфред Нобель, который в XIX веке был известен как изобретатель динамита. У него был брат, на этого брата и на него самого был некролог. Когда он его прочитал, он очень опечалился, потому что его называли продавцом смерти. Это событие послужило толчком к тому, чтобы изменить его дальнейшую жизнь. И все свои средства после этого он завещал на организацию премии. Так вот, вопрос. Если бы вы смогли увидеть свой некролог и изменили бы вы как-то свою жизнь? И вообще каким человеком вы бы хотели запомниться людям?
В. Познер: Очень хороший вопрос. Спасибо большое.
Что касается первого вопроса. Да, я работал у Самуила Яковлевича, потому что я думал, что буду переводить английскую поэзию на русский язык. Кое-что я перевел и каким-то таинственным образом некоторые мои черновики попали к нему и вот в один прекрасный день раздался телефонный звонок и скрипучий противный женский голос сообщил мне, что это Розалия Ивановна и что Самуил Яковлевич меня приглашает в такой-то день. Все равно как господь бог меня пригласил бы. Я от него был в полном восторге. Я помчался к нему на Курский вокзал, улицу Чкалова, он вышел мне навстречу – совсем невысокого росточка, большая голова, седые вьющиеся волосы, маленькие зеленые глаза за толстыми стеклами очков, лицо все в мелких-мелких морщинках. В таком зеленом вязаном свитере. «Проходите пожалуйста». Мы пошли к нему в кабинет. Большой кабинет – книги, книги, книги, книги, книги. Огромный письменный стол. И он мне говорит: «У вас есть способности, но у вас нет никакого умения. Хотите поработать у меня литературным секретарем? Кое-чему вы научитесь». Я сказал – конечно хочу.
Я отвечал на письма. Я был писарем. Отвечал на русские, английские и французские письма. Французских было очень мало, английских было довольно много.
Владимир Познер: Маршак называл Михалкова «севрюжьей мордой» и «гимнюком» | Статьи — Интервью
Новости
Украина
Политика
Экономика
Киев
Спорт
Наука
Здоровье
Происшествия
Relax
Блоги
Архив
Новости компаний
«Я много размышлял над тем, что есть «русскость»?»
На самом деле Маршак был одинок. Он – трагическая личность другого времени, и происходящее могло восприниматься им лишь чувством омерзения. Свое одиночество он преодолевал, постоянно окружая себя людьми – редакторами, начинающими поэтами, подающими надежды переводчиками, журналистами. С одной стороны, он постоянно жаловался на то, что ему не дают покоя люди, которых не заботит его здоровье и почтенный возраст; с другой, он делал все необходимое, чтобы не умолкал телефон и не прерывался поток посетителей. Стоило этому потоку замедлиться или уменьшиться, и он становился раздражительным, недовольным.
Самуил Яковлевич обожал рассказывать, а я был благодарным слушателем. Благодаря ему я прошел совершенно новый курс русской литературы и русской истории. Я начал перечитывать писателей, с которыми познакомился, еще когда готовился к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. Но теперь я читал иначе, заново открывая для себя Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Я также знакомился с литераторами, о которых прежде не слыхал, с теми, чьи фамилии не встречались в учебниках, чьи книги были запрещены и хранились лишь в спецфондах библиотек. С точки зрения советского общества их не существовало. Однако среди них встречались писатели выдающиеся, такие как Булгаков, Платонов, Бабель и Зощенко. Были и менее значимые, но они помогли мне понять, что произошло в России в начале двадцатого века, составить представление о течениях, которые в конце концов привели к падению династии Романовых. Этих книг не продавали в магазинах, а для того, чтобы читать их в библиотеках, требовались особые разрешения. Но у Маршака они были.
Самуил Яковлевич являлся не только блестящим переводчиком и писателем, он был своего рода культурным магнитом, втягивавшим в свою орбиту совсем еще молодых Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину и прочих. Он близко дружил с Александром Трифоновичем Твардовским, которого считал великим поэтом. Занявший прочное место в пантеоне русской поэзии благодаря своему «Василию Теркину», Твардовский в те годы работал главным редактором журнала «Новый мир», где опубликовал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.
Как человек, родившийся и выросший не в России, человек, который постигал Россию и ее культуру не изнутри, не естественным путем, не как нечто само собою разумеющееся, а как явление, хотя и притягательное, но чужое, я много размышлял над тем, что есть «русскость»? Какое сочетание черт формирует русского? Или, скажем, грузина, француза, американца? Перечисление черт не приносит ровно никакого результата, поскольку оказывается, что они есть у всех. И тем не менее их вполне причудливое и, я бы даже сказал, таинственное переплетение дает в итоге то, что простым перечислением невозможно определить. Из всех знакомых мне литературных героев самый русский – Василий Теркин. Это мое субъективное восприятие, но это так. Он для меня гораздо более русский, чем такие сказочные и, следовательно, народные фигуры, как Иван-дурак, Илья Муромец и прочие. Теркин для меня вполне легендарен в смысле его обобщенного образа русского человека.
Твардовского открыл Маршак. Это было в тридцатых годах – деревенский парень со Смоленщины, в лаптях, пешком дошел до Москвы. Он явился к Маршаку, держа в одной руке завернутые в материнский платок продукты, а в другой – исписанную химическим карандашом ученическую тетрадку; пришел к Маршаку потому лишь, что с детства знал его фамилию, читал его книжки. Как поведал мне Самуил Яковлевич, он чуть не свалился со стула, когда начал читать «каракули» этого неотесанного мужика. Это были, по его словам, замечательные стихи, подобных которым он уже давно не встречал.
Маршак не мог наговориться, рассказывая о гениальной простоте поэзии Твардовского, о сочном народном языке, о его выразительности. Чаще всего Самуил Яковлевич приводил в качестве примера вот эти строчки:
Переправа, переправа!?
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода,—?
Ни приметы, ни следа.
И в самом деле, точнее не скажешь, за несколькими словами возникает целая картина. Просто? Да. И непереводимо. Как, в частности, непереводим Пушкин – не в том смысле, о котором я уже писал, а в своей простоте. Самое короткое расстояние между двумя точками – прямая линия. Ее не улучшишь, ее по-другому не изложишь. Я читал множество переводов Пушкина на английском языке, и не было ни одного, который хоть в чем-то напоминал его. Все слишком просто, слишком гениально. Сравниваю ли я Твардовского с Пушкиным? Нет, конечно. Но отношусь с презрением к снобам, которые смотрят на Твардовского свысока, считая его слишком доступным, недостаточно элитарным, понятным и без ученой степени. Смех, да и только! Самое великое искусство просто, как Эверест, как океан, как огонь. В простоте той – красота, мощь, бессмертие и непостижимая сложность.
Твардовский нередко заходил к Маршаку, и мне было позволено сидеть тихо в углу и слушать их беседы. Как и большинство советских людей, Александр Трифонович в свое время восхищался Сталиным и безмерно верил ему. Но в отличие от многих, он сам же подверг эту веру сомнениям. В результате родилась поразительная поэма «За далью даль». Самое первое чтение этой работы, еще в рукописи, состоялось в кабинете Самуила Яковлевича, и я имел счастье присутствовать при нем. Это лишь один из множества примеров того, какими уникальными были мои обстоятельства, благодаря которым я имел возможность непосредственно слышать и слушать литературу и рассуждения корифеев того времени.
Кроме того, мне позволялось находиться в «лаборатории» Маршака, в его кабинете, когда он писал. Я был свидетелем того, как он работал, как раз за разом правил, перечеркивал, начинал с начала и вновь перечеркивал. Писательство – дело трудное, это знают все, это, так сказать, общее место; но чтобы понять, насколько оно трудное, надо увидеть муки сидящего за столом.
Маршак садился за стол в девять утра и выходил из-за него в девять вечера, он работал как одержимый, доводя себя до полного изнеможения в поисках точного слова, точной рифмы. Самуил Яковлевич уже был на литературном олимпе, ему не требовалось никому ничего доказывать, все, что он писал, печаталось без разговоров. Словом, он мог не стараться. А он трудился на пределе своих возможностей. Художник иначе не может, художник – это… Нет, я и пробовать не буду дать определение, тем более, что это уже сделано бесподобно и точно Уильямом Фолкнером:
«Говоря о художнике, я, конечно, подразумеваю всех тех, кто попытался создать нечто такое, чего до них не существовало, создать лишь с помощью тех инструментов и того материала, которые принадлежат человеческому духу и потому не продаваемы; тех, кто, неважно как, неумело, попытался вырезать на стене окончательного забытья языком духа человеческого.
Это, главным образом, и, как мне кажется, по сути дела и есть все, что мы когда-либо пытались сделать. И я полагаю, мы все согласимся с тем, что мы провалились. Что созданное нами не дотягивало и никогда не дотянет до формы, до идеальной мечты, которую мы получили в наследство, которая подгоняла нас и будет подгонять дальше, даже после каждого провала, до тех пор, пока мука нас отпустит и рука, наконец, упадет и замрет».
Эта мука не была чужда Маршаку. Ему потребовалось двадцать лет, чтобы перевести сонеты Шекспира, но мне доподлинно известно: когда эта работа была опубликована и встречена восторженно критикой и читателями, он страдал от осознания того, что не «дотянул» до идеала.
Он был одинок. Потеря младшего сына оказалась невосполнимой, а отношения со старшим складывались не лучшим образом. Жена его, Софья, давно скончалась. Женщина, которую он любил, – как я понимал, любил очень давно, – была замужем. К моменту моего появления в доме Маршака у нее нашли рак. Нет ничего удивительного в том, что в этих обстоятельствах Самуил Яковлевич нуждался в близком человеке, и волею судеб им стал я.
Маршак всегда разговаривал со мной как с ровней, называл только по имени-отчеству, никогда не тыкал, понимая, что подчеркивал бы этим свое превосходство.
Он был заядлым курильщиком и, несмотря на слабые легкие, выкуривал две-три пачки сигарет в день. Нередко он болел воспалением легких и, как только поднималась температура, начинал бредить. Он всегда требовал, чтобы во время болезни я сидел около его постели – до сих пор не понимаю, почему он выбрал именно меня. Как-то, приходя в себя после очередного подъема температуры, Самуил Яковлевич посмотрел на меня печально и слабым голосом предложил:
– Эх, Владимир Владимирович, поедемте в Англию.
?Мне, абсолютно невыездному, показалось, что он все еще бредит.
?– Конечно, поедем, Самуил Яковлевич, – ответил я.
?– Когда приедем, – абсолютно серьезно продолжал он, – мы купим конный выезд.
?Я согласно кивнул.
?– И вы, Владимир Владимирович, будете сидеть на козлах и привлекать всех красивых молодых женщин.
?– Договорились, Самуил Яковлевич.
?– Но внутри, – он взглянул на меня с хитрецой, – буду сидеть я, потому что вы, мой дорогой, совершенно не понимаете, как надо обращаться с красивыми женщинами!
Типичный Маршак.
Из книги Владимира Познера «Прощание с иллюзиями»
Владимир Познер о Маршаке и писательстве: masterskietexta — LiveJournal
Мне позволялось находиться в «лаборатории» Маршака, в его кабинете, когда он писал. Я был свидетелем того, как он работал, как раз за разом правил, перечеркивал, начинал с начала и вновь перечеркивал.Писательство – дело трудное, это знают все, это, так сказать, общее место; но чтобы понять, насколько оно трудное, надо увидеть муки сидящего за столом. Маршак садился за стол в девять утра и выходил из-за него в девять вечера, он работал как одержимый, доводя себя до полного изнеможения в поисках точного слова, точной рифмы. Самуил Яковлевич уже был на литературном олимпе, ему не требовалось никому ничего доказывать, все, что он писал, печаталось без разговоров. Словом, он мог не стараться. А он трудился на пределе своих возможностей. Художник иначе не может, художник – это… Нет, я и пробовать не буду дать определение, тем более, что это уже сделано бесподобно и точно Уильямом Фолкнером:
«Говоря о художнике, я, конечно, подразумеваю всех тех, кто попытался создать нечто такое, чего до них не существовало, создать лишь с помощью тех инструментов и того материала, которые принадлежат человеческому духу и потому не продаваемы; тех, кто, неважно как, неумело, попытался вырезать на стене окончательного забытья языком духа человеческого: „Здесь был Вася“.
Это, главным образом, и, как мне кажется, по сути дела и есть все, что мы когда-либо пытались сделать. И я полагаю, мы все согласимся с тем, что мы провалились. Что созданное нами не дотягивало и никогда не дотянет до формы, до идеальной мечты, которую мы получили в наследство, которая подгоняла нас и будет подгонять дальше, даже после каждого провала, до тех пор, пока мука нас отпустит и рука, наконец, упадет и замрет».
Эта мука не была чужда Маршаку. Ему потребовалось двадцать лет, чтобы перевести сонеты Шекспира, но мне доподлинно известно: когда эта работа была опубликована и встречена восторженно критикой и читателями, он страдал от осознания того, что не «дотянул» до идеала.
(Владимир Познер, «Прощание с иллюзиями»)