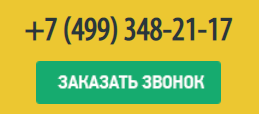Познер, Павел Владимирович — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Познер.Па́вел Влади́мирович По́знер (19 апреля 1945, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США — 26 апреля 2016, Москва, Россия) — российский востоковед.
Ведущий научный сотрудник Отдела сравнительного культуроведения Института востоковедения Российской Академии наук (ИВ РАН), Государственный доктор по общественным и гуманитарным наукам (Франция), доктор исторических наук (СССР). Специалист по истории Вьетнама. Младший брат известного журналиста Владимира Владимировича Познера.
Родился в семье российского еврея-эмигранта Владимира Александровича Познера (1908—1975) и француженки-католички Жеральдин Люттен (1910—1985), бежавших в США из оккупированной фашистами Франции. Младший брат известного журналиста Владимира Владимировича Познера. Его дед, Александр Вульфович (Владимирович) Познер (1875, Минск — после 1941), был основателем товарищества «Григорий Вейнберг и Александр Познер, инженеры» в Санкт-Петербурге
В 1949 году семья Познер была вынуждена переехать из США в Берлин (ГДР), во въезде во Францию главе семьи было отказано. Он получил должность в компании «Совэкспортфильм», а в 1950 году — советское гражданство. В 1952 году семья переехала в Советский Союз, в Москву.
Защитил кандидатскую диссертацию (1976)[2]. Является автором перевода одного из трёх национальных летописных сводов, на которых основана вьетнамская историография («Одобренное высочайшим повелением всеобщее зерцало вьетской истории, основа и частности»)[3].
Много лет работал в Институте востоковедения АН СССР, в отделе сравнительного культуроведения. После 1991 года оказался вынужден искать дополнительные источники дохода. Вместе с братом открыл в Москве ресторан, названный в честь мамы — «Жеральдин»[4]. В 1993 году в качестве представителя французской фирмы внёс в совместное предприятие «Флакон Москва — Париж» 10 тыс. долларов в уставной капитал совместного предприятия со смешанным капиталом, на территории ныне «Дизайн-завода «Флакон». Французская парфюмерная компания «Comptoir de Parfum» (с итальянским капиталом) (парфюмерия не для продаж во Франции). Первые переговоры прошли в январе 1993 года, в августе было учреждено совместное предприятие АОЗТ «Флакон: Москва — Париж», под управление которого перешёл только 1 цех завода АОЗТ «Парфюмфлакон» в качестве взноса в уставной капитал совместного предприятия. Генеральным директором новой компании стал Павел Познер. В 2005 году завод обанкротился.
Умер в Москве 26 апреля 2016 года от рака. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
- Древний Вьетнам: Пробл. летописания / П. В. Познер. М.: Наука, 1980. — 184 с.
- История Вьетнама эпохи древности и раннего средневековья до X в. н. э. / П. В. Познер; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. — М.: Наука, 1994. — 552 с.
- Познер П. В. Отражение истории Вьета, основа [и] частности, составленное по велению императора: кн. нач. [и] записи [о] предшествовавших [событиях]: (кн. 1-5). — М.: Ин-т востоковедения РАН, 2004. — 1161 с. — ISBN 5-89282-222-2
- ↑ Сестра деда — Вера Вульфовна (Владимировна) Поузнер (Познер, 1871—1952), была замужем за известным адвокатом и общественным деятелем Л. М. Брамсоном. Брат деда — журналист, литератор и общественный деятель Соломон Владимирович Познер (1876—1946), отец писателя В. С. Познера. Другой брат — статский советник, адвокат Матвей Владимирович (Мордух Вульфович) Поузнер (1869—1916), член Совета и директор Русского торгово-промышленного банка, член правлений Общества цементных заводов «Гранулит», Донецко-Грушевского общества каменноугольных и антрацитных копей, товарищества Сергинско-Уфалейских горных заводов; был женат на Розалии Рафаиловне Гоц, сестре А. Р. Гоца и М. Р. Гоца.
- ↑ Каталог РНБ
- ↑ EAstudies.ru : Публикации / Рецензия На Книгу Познера (неопр.). eastudies.ru. Дата обращения 9 января 2014.
- ↑ Владимир и Павел Познеры: Париж на Остоженке (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 29 декабря 2013. Архивировано 31 декабря 2013 года.
«Это различие дает ключ к пониманию того, кто такие французы…»
Art, Artisanat, Artiste, Artisan – следует перевести как «Искусство, ремесло, художник, ремесленник». Во французском языке в корне всех четырех слов стоит слово Art – «искусство», а это говорит о том, что для француза нет принципиальной разницы между искусством и ремеслом, между художником и ремесленником, чего не скажешь о русском варианте. Да вообще, странная произошла метаморфоза в России с толкованием этого понятия. Если сказать о человеке, что он – ремесленник, то это, скорее, имеет отрицательное значение. Чуть лучше обстоят дела со словом «ремесло», но и оно не отличается позитивным звучанием, поскольку предполагает, в частности, отсутствие творческого начала.
Взять, например, многие российские народные промыслы: жостовские расписные подносы, оренбургские платки, палехские шкатулки. Это что такое? Безусловно, ремесленное производство, сделано это ремесленниками. Но если вы так скажете, вам возразят, что вовсе не ремесленниками, а художниками. Слово «ремесленник» принижает.
Во Франции все обстоит совершенно иначе. Там разница между artiste и artisan, то есть между художником и ремесленником, заключается лишь в том, что они занимаются разными делами, но в их основе лежит искусство. И, как мне кажется, это различие имеет принципиальное значение и в какой-то степени дает ключ к пониманию того, кто такие французы.
Но это я, так сказать, к слову. Хотел же я рассказать о посещении двух мест. Первое – это ателье Ришара Лерейа, профессия которого по-французски называется illuminateur. Перевода этого слова я не нашел. Буквально это означает «осветитель», но, как вы понимаете, речь идет не о человеке, который с помощью юпитеров и прочих световых приборов что-либо освещает. Иллюминатор – это человек, который… Нет, так не пойдет, придется отступить на много веков назад.
Еще до Гуттенберга и Ивана Федорова, когда не было печатных станков, книги писались от руки, и писались они почти исключительно в монастырях. Специально обученные этому делу монахи тщательно выводили слова органическими чернилами, которые сохранились и по сей день так, что фолианты XIII–XIV веков читаются, словно были написаны вчера. И помимо написания монахи эти книги «освещали», то есть они разрисовывали заглавные буквы разными красками, по ходу текста создавали маленькие иллюстрации поразительной красоты. Когда же возник печатный станок, монашеский труд перестал быть необходимым, и постепенно секрет иллюминации был утерян. Был забыт секрет изготовления органических красок, исчезла сама профессия осветителя. Исчезла, но… не совсем. Как всегда, нашлись подвижники, которые сохранили это искусство, есть они сегодня, но, насколько я знаю, только во Франции. Да и тут их всего четыре человека. Ришар Лерей – один из них.
Его мастерская находится в аббатстве Фонтевро, крохотном городке в долине Луары с населением около двух тысяч жителей. Здесь он готовит краски, здесь он расписывает картоны, здесь он учит двух подмастерьев с тем, чтобы «освещение» не погасло. В основном он пишет миниатюры, подробность которых поражает. Но, если вам угодно, вы можете заказать расписную картинку буквы вашего имени или вашей фамилии, и вы получите совершенно уникальное произведение, отливающее золотом, киноварью и множеством других красок, названия которых мне неизвестны.
Почему именно здесь и именно во Франции сохранилось это ремесло, ведь иллюминаторы никогда не считались художниками? Может быть, потому, что рядом расположилось великолепнейшее аббатство, давшее этому место свое имя? Может быть, потому, что над этим местом витают души средневековых монахов-иллюминаторов? Тут можно строить всякого рода догадки и теории, которые, по правде говоря, меня мало интересуют. Важно то, что древнее ремесло не исчезло и что оно, ремесло, ценится наравне с тем, что принято величать искусством.
Купить книги или фильмы Владимира Познера
«Провокационный вопрос – это тот, который тебе не нравится»
– К вам в передачу часто приходят государственные деятели и чиновники различного уровня. И конечно пытаются отстоять свою позицию. Вы задаете им провокационные – для них – вопросы, неудобные, они часто в основном проигрывают вам эту словесную дуэль. Вопрос: зачем он приходит? Он идет, изначально понимая, что он у вас не выиграет.
– Вы знаете, мне кажется, что вы неправильно их понимаете, этих людей. Они очень в себе уверены. Очень. И они считают, что они безусловно меня сильнее и так далее. В основном – именно так. И многие приходят совершенно неподготовленными. Потому что они привыкли, что они – начальники, и поэтому, собственно говоря, нет проблем. Это раз. Второе – программа «Познер» за годы своего существования набрала некоторый вес, и считается, что участвовать в этой программе – это придает тебе тоже определенный статус. Поэтому хотят прийти – вот я был. Это второе. Хотя некоторые железно не приходят и не хотят, несколько таких человек. Третье – я вам искренне говорю: я не приглашаю для того, чтобы выигрывать в какой-то там словесной дуэли. Я приглашаю, если говорить о государственных деятелях, депутатах Госдумы, министрах и так далее – я их приглашаю потому, что я хочу, с одной стороны, чтобы зрители понимали, кто это – то есть как-то раскрыть, и хочу задать им те вопросы, которые хотел бы задать им тот же самый зритель, но не может, не имеет этой возможности.
Никаких провокационных вопросов вообще не бывает. Провокационный вопрос – это тот, который тебе не нравится. Вот поэтому и провокационный. Я задаю трудные вопросы, но заметьте – есть люди, которые прекрасно на них отвечают. Но поскольку эти люди в своем большинстве не привыкли отвечать, скажем так, то они неважно выглядят. Вот последняя у меня была наша омбудсмен – генерал-майор полиции. Я уверен, что это очень хороший человек, у меня нет никаких сомнений. И более того – что она хочет сделать что-то. Но генерал-майор полиции не привык… То, что она вообще пришла, – меня это удивило. Я думал, что она все сделает, чтобы не прийти. Эти люди просто не привыкли к такому разговору. Они привыкли – они говорят, все молчат. Сверху вниз. И кто старше них говорит – они молчат.
А вообще в мире члены правительства приходят на телевидение, хотят, потому что понимают, что они могут использовать телевидение для того, чтобы донести до людей точку зрения власти. Они стремятся попасть на телевидение. Пока у нас до этого не доросли. Хотя Путин это очень понимает и пользуется этим, безусловно.
Так что идет процесс, это процесс нормальный. Но я еще раз говорю – не надо рассматривать эту программу как с моей стороны дуэль, которую я хочу выиграть. Я ничего не хочу выиграть – я хочу, чтобы ответили на мои вопросы. Вот если не отвечаете на мои вопросы – тогда, извините, я буду брать за горло. Но не только государственных деятелей. Шнура, например.
Видеозапись:
Из выступления Владимира Познера в “Жеральдин” (20.12.16)
«Я расскажу вам о своем отце»
Я родился во Франции, первого апреля 1934 года, в день рождения моей матери. Это всегда вызывало смех у наших знакомых, поскольку во всем мире первое апреля — это день дураков, день шуток и всякого рода розыгрышей… Я считался незаконнорожденным. Моему отцу было тогда 25 лет, он, как говорится, хотел еще погулять и не собирался связывать себя узами брака. Ну, а моя мать, которая была очень гордым человеком, в ответ на это взяла и уехала со мной, трехмесячным, в Америку. В Штатах жили ее мать и сестра, близкие друзья и, наконец, была возможность получить работу: мама работала монтажером во французском отделении кинокомпании «Парамаунт». Кстати, бабушка моей мамы — Эжени Нибуайе — первая французская суфражистка, весьма известный человек. Во Франции, например, продаются спички, на этикетках которых — ее изображение. Еще в XIX веке Эжени Нибуайе первой заявила о праве женщин голосовать и о том, что за свой труд женщины должны получать такую же оплату, как и мужчины…
 Я очень хорошо помню, как впервые увидел своего отца, который все-таки приехал за моей матерью, когда мне было уже пять лет. В то лето мы жили на даче у маминых друзей. Я возился на чердаке. У меня была игрушка — кораблик с веревочкой: я пытался отвязать веревочку, но мне это никак не удавалось. Я страшно разозлился, стал швырять кораблик, бить его ногами. В этот момент ко мне поднялась мама и очень спокойно сказала:
Я очень хорошо помню, как впервые увидел своего отца, который все-таки приехал за моей матерью, когда мне было уже пять лет. В то лето мы жили на даче у маминых друзей. Я возился на чердаке. У меня была игрушка — кораблик с веревочкой: я пытался отвязать веревочку, но мне это никак не удавалось. Я страшно разозлился, стал швырять кораблик, бить его ногами. В этот момент ко мне поднялась мама и очень спокойно сказала:
— Возьми кораблик и спустись вниз — там сидит человек, который, по-моему, очень хорошо умеет развязывать узлы.
Я спустился и увидел незнакомого дядю. Поздоровавшись с ним, я спросил: «Можете ли вы развязать этот узел?» Он сказал: давай, мол, попробую…
Я и сегодня вижу его руки. На левом безымянном пальце левой руки было небольшое вздутие. Кольца не было… Он развязал узел, я сказал «Спасибо» и хотел уйти. Но мама остановила меня словами: «Это твой папа». Не помню, чтобы, услышав это, я как-то очень уж обрадовался или испугался. Но эта сцена и сегодня живет у меня в памяти…
Вскоре мама и мой отец официально вступили в брак, и мы отправились во Францию, потому что у отца там была работа. Корабль, на котором мы плыли, назывался «Нормандия». Это был гигантский дворец на воде. Я бегал по палубе, играл там в разные игры и уже тогда ссорился с отцом. Мать никогда мне ничего не приказывала. Ей достаточно было сказать, как я тут же бросался исполнять ее пожелания. Отец был настоящим командиром, и его приказной тон вызывал во мне протест…
 Шел 1939 год. Первого сентября Германия вторглась в Польшу. Поскольку у Франции и Великобритании были с Польшей соглашения о взаимной защите, то третьего сентября Франция и Англия объявили войну Германии. Мой отец ушел во французскую армию. В течение первых месяцев этой «странной войны» боевых действий не было вообще. Когда же немцы ударили по-настоящему, все закончилось очень быстро. Но мой отец все же немножко повоевал. Он был пулеметчиком на легком бомбардировщике и, по его словам, их экипаж, вроде бы, даже сбил один немецкий самолет…
Шел 1939 год. Первого сентября Германия вторглась в Польшу. Поскольку у Франции и Великобритании были с Польшей соглашения о взаимной защите, то третьего сентября Франция и Англия объявили войну Германии. Мой отец ушел во французскую армию. В течение первых месяцев этой «странной войны» боевых действий не было вообще. Когда же немцы ударили по-настоящему, все закончилось очень быстро. Но мой отец все же немножко повоевал. Он был пулеметчиком на легком бомбардировщике и, по его словам, их экипаж, вроде бы, даже сбил один немецкий самолет…
В детстве меня окружали замечательные люди. Общаясь с ними, я испытывал такую любовь к ним, такую радость… И только отец вызывал во мне чувство страха. Он сразу же пресекал любое проявление своеволия с моей стороны. А вот мама меня обожала. Но она, соблюдая приличия, редко позволяла себе приласкать меня. Но если мама считала нужным высказать по какому-то поводу свое мнение, к ней все прислушивались, в том числе и отец. Мама была сильнее отца, гораздо сильнее…
Моего отца порой путают с его двоюродным братом, французским писателем. Тот Владимир Познер был и публицистом, и поэтом, а мой отец не имел отношения к литературе. Всю жизнь он занимался производственными, как сказали бы теперь, проблемами кино. Он был чрезвычайно знающий, умный и обаятельный человек. Смелый, с огромным чувством собственного достоинства…
 Кто был мой отец по национальности? Я всегда испытываю некоторое затруднение, пытаясь ответить на этот вопрос. Он, как я считаю, был русский. Но что значит русский? Ведь национальные особенности в первую очередь определяются культурой, языком, средой, в которой формируется человек, и тогда мой отец, родившийся в Петербурге, в интеллигентной семье, конечно же, русский. Хотя найдется множество людей, которые легко опровергнут меня, сказав, что он еврей. Его бабушка родилась в Кронштадте, а он был сыном эмигрантов, которые покинули советскую Россию в 1922 году, когда ему было 14 лет. Владимир Познер уехал со своими сестрами, и, кстати сказать, образы его сестер остались в русской литературе. Дело в том, что семья Познеров дружила с семьей Чуковских. И когда Корней Иванович Чуковский писал свою знаменитую сказку в стихах «Крокодил», то детям Крокодила и Крокодилицы он дал имена Кокоша, Лелеша и Тотоша. Так вот, Кокоша — это его сын Николай, а Тотоша и Лелеша — сестры моего отца. Лелеша — это Елена Александровна, которой сейчас 93 года (она живет во Флоренции), а Тотоша — это Виктория Александровна — ей 88 лет, и она живет в Париже.
Кто был мой отец по национальности? Я всегда испытываю некоторое затруднение, пытаясь ответить на этот вопрос. Он, как я считаю, был русский. Но что значит русский? Ведь национальные особенности в первую очередь определяются культурой, языком, средой, в которой формируется человек, и тогда мой отец, родившийся в Петербурге, в интеллигентной семье, конечно же, русский. Хотя найдется множество людей, которые легко опровергнут меня, сказав, что он еврей. Его бабушка родилась в Кронштадте, а он был сыном эмигрантов, которые покинули советскую Россию в 1922 году, когда ему было 14 лет. Владимир Познер уехал со своими сестрами, и, кстати сказать, образы его сестер остались в русской литературе. Дело в том, что семья Познеров дружила с семьей Чуковских. И когда Корней Иванович Чуковский писал свою знаменитую сказку в стихах «Крокодил», то детям Крокодила и Крокодилицы он дал имена Кокоша, Лелеша и Тотоша. Так вот, Кокоша — это его сын Николай, а Тотоша и Лелеша — сестры моего отца. Лелеша — это Елена Александровна, которой сейчас 93 года (она живет во Флоренции), а Тотоша — это Виктория Александровна — ей 88 лет, и она живет в Париже.
…Эмигрировав из России, семья Познеров оказалась в Германии, в Берлине. Там мой дед, Александр Владимирович Познер, расстался со своей женой, уехал в Литву и стал литовским гражданином. Остальные Познеры уехали в Париж…
Окончив русско-французский лицей, учрежденный в Париже для детей эмигрантов, отец начал работать, он должен был содержать семью. Волею судеб он попал в американскую компанию «Метро Голдвин Майер», а затем благодаря своей причастности к кино, встретился с моей мамой.
 Хотя мой отец и был сыном эмигрантов, революцию в России он воспринимал как нечто романтическое и замечательное. Он был ярым сторонником советской власти и социализма и считал, что в Советском Союзе царит справедливость и что именно там существует достойное человека общество. И, разумеется, он мечтал о том, чтобы вернуться на Родину и стать советским гражданином.
Хотя мой отец и был сыном эмигрантов, революцию в России он воспринимал как нечто романтическое и замечательное. Он был ярым сторонником советской власти и социализма и считал, что в Советском Союзе царит справедливость и что именно там существует достойное человека общество. И, разумеется, он мечтал о том, чтобы вернуться на Родину и стать советским гражданином.
От французского гражданства отец не то что отказался — он никогда его не брал, а никакого другого гражданства у него не было. Только став совершеннолетним, он получил так называемый «нансеновский паспорт» — документ, который сейчас уже не признается в международной практике.
После первой мировой войны Фритьоф Нансен, который был не только выдающимся исследователем Арктики, но и большим гуманистом, предложил Лиге Наций учредить такой документ, который позволил бы лицам без гражданства и беженцам законно жить и работать в любой стране. Ну, а советский паспорт моему отцу вручили только тогда, когда мы снова приехали в Америку. Это стало возможным после того, как Литва, Латвия и Эстония стали советскими. Тогда был издан Указ Верховного Совета СССР, согласно которому любые граждане этих республик, а также их взрослые дети, живущие за рубежом, обретали право на советское гражданство. А так как мой дедушка Александр Владимирович к тому времени был уже гражданином Литвы, то в 1941 году мой отец смог, обратившись в советское консульство в Нью-Йорке, получить советский паспорт. Так что, если бы у меня не было дедушки, литовского подданного, то моя жизнь, наверное, сложилась бы совсем по-другому.
Те, кто работал с моим отцом, души в нем не чаяли. Но вот в семейной жизни он был очень трудный человек. Наши стычки с ним продолжались очень и очень долго. Позже они превратились в ожесточенные политические споры, так как я не разделял восторгов отца в отношении советской власти. И если бы не моя вторая жена — Екатерина Орлова — то, мне, наверное, никогда не удалось бы установить с отцом настоящие родственные отношения. Надо сказать, что мой отец был неравнодушен к женщинам, причем он любил именно таких, как Катя — красивых, умных, с характером. Поэтому-то она и могла говорить ему то, что считала нужным сказать. Никому другому не удалось бы заставить его выслушать такое, а вот Кате это позволялось…
 Мой отец был спортивный и очень изящный и элегантный человек. Он, кстати сказать, создал во Франции баскетбольную команду «Русский баскетбольный клуб». И эта команда, в которой играли только эмигранты из России, стала чемпионом Франции. Отец был капитаном «Русского баскетбольного клуба», и у него была масса спортивных наград. Он совсем не был похож на спортсмена. У него была летящая походка, и он очень легко и быстро двигался…
Мой отец был спортивный и очень изящный и элегантный человек. Он, кстати сказать, создал во Франции баскетбольную команду «Русский баскетбольный клуб». И эта команда, в которой играли только эмигранты из России, стала чемпионом Франции. Отец был капитаном «Русского баскетбольного клуба», и у него была масса спортивных наград. Он совсем не был похож на спортсмена. У него была летящая походка, и он очень легко и быстро двигался…
Мне кажется, что отец осознанно и неосознанно все время сравнивал свое детство с моим. Его папаша просто терроризировал своих близких. И, видимо, с самых ранних лет мой отец проникся уверенностью, что глава семьи именно так и должен поступать. Он был убежден, что дети и взрослые — это два разных народа, и что главное в жизни детей — это режим, который они должны неукоснительно соблюдать, подчиняясь диктату взрослых. Правда, иногда в качестве поощрения он водил меня, скажем, в цирк, но никаких «нежностей» между нами не было и в помине. Отец очень много работал: уходил рано утром и приходил поздно вечером. А я должен был вовремя ложиться спать: до тех пор, пока мне не исполнилось 15 лет, я был обязан уже в половине десятого быть в постели.
Когда я замечал в себе какие-то черты сходства с моим отцом, это не доставляло мне никакой радости. Внешне мы не очень похожи, но я не хотел и внутренне напоминать его, несмотря на то, что все знакомые отца прекрасно о нем отзывались. Я всегда думал, что никогда не буду, не позволю себе быть таким, как отец. И, насколько я могу судить, это сбылось, и если кто-то, желая сделать мне приятное, говорит: «О, как вы похожи на Владимира Александровича», я могу ответить только одно: «Что делать…»
Мне шел седьмой год, когда мы решили вернуться в Америку. Из Франции надо было бежать, ведь мой отец не просто носил еврейскую фамилию, он к тому же был известен своими просоветскими настроениями. Однако уехать из Франции он не мог, потому что у него не было паспорта. У мамы и у меня таких проблем не было: мама была гражданкой Франции, а я был вписан к ней в паспорт…
 Вскоре стало ясно, что получить документы на выезд отец может только одним-единственным способом — дав взятку гестаповцам. Но таких денег у нас не было. И тогда одна богатая еврейская семья предложила нам сделку: мы должны были взять с собой в качестве няни их 18-летнюю дочь, а они за это обещали дать деньги. И мои родители приняли это предложение…
Вскоре стало ясно, что получить документы на выезд отец может только одним-единственным способом — дав взятку гестаповцам. Но таких денег у нас не было. И тогда одна богатая еврейская семья предложила нам сделку: мы должны были взять с собой в качестве няни их 18-летнюю дочь, а они за это обещали дать деньги. И мои родители приняли это предложение…
В Марселе мы сели на поезд, и я впервые увидел, как плачет мой отец. Это произвело на меня невероятное впечатление: оказывается, мой отец тоже может плакать…
Несколько дней, а может быть, и несколько недель (я этого не помню), мы провели в Испании. Там я впервые увидел мальчика-нищего, который просил милостыню. И это меня потрясло. Я спрашивал отца, что случилось с этим мальчиком, почему все гонят его и никто не хочет ему помочь? И отец пытался объяснить мне, что такое нищета, кто такой Франко.
Потом сели на пароход и поплыли в Америку. И вот тогда-то я почувствовал себя настоящим мужчиной. Поводом для этого стало вроде пустячное происшествие. У моей мамы был галстучек-бабочка из синего шелка, с красными горошинами, в центре которых были белые точки. Этот галстучек пристегивался к пуговичке на блузке, и маме он очень нравился. Но однажды она его потеряла…
И вот как-то, гуляя по палубе, я вдруг увидел идущего мне навстречу мальчика, который украсил себя маминым галстучком: «Отдай сейчас же!», — крикнул я ему. «Нет! — ответил он. — Это мой галстук, я его нашел!» Он был выше меня, но я набросился на него, как тигр, и снял с него эту бабочку, не обращая внимания на его слезы. Прибежав к маме, я отдал ей галстук, впервые ощутив, что я рыцарь, мужчина, который может защитить свою маму… И это, быть может, одно из самых моих радостных детских воспоминаний. Но есть и страшные воспоминания, которые тоже сопровождают меня всю мою жизнь…
 Когда корабль, на котором мы плыли в Америку, находился недалеко от Бермудских островов, моряки обнаружили в море тушу мертвого кита, вокруг которой было множество акул. Капитан решил поднять ее на борт, чтобы добыть амбру — драгоценное вещество, использующееся в парфюмерной промышленности. С большим трудом тушу подняли на борт, а потом решили поймать акулу. И вот матросы, находившиеся на нижней палубе, стали опускать в море канат, на конце которого был крюк с насаженным на него куском свинины. Одна из акул проглотила приманку, и матросы тут же стали вытягивать канат. Акула оказалась метра три в длину. Некоторое время она билась на палубе, а потом успокоилась…
Когда корабль, на котором мы плыли в Америку, находился недалеко от Бермудских островов, моряки обнаружили в море тушу мертвого кита, вокруг которой было множество акул. Капитан решил поднять ее на борт, чтобы добыть амбру — драгоценное вещество, использующееся в парфюмерной промышленности. С большим трудом тушу подняли на борт, а потом решили поймать акулу. И вот матросы, находившиеся на нижней палубе, стали опускать в море канат, на конце которого был крюк с насаженным на него куском свинины. Одна из акул проглотила приманку, и матросы тут же стали вытягивать канат. Акула оказалась метра три в длину. Некоторое время она билась на палубе, а потом успокоилась…
Держась за поручни, я стоял на краю верхней палубы и смотрел вниз. И вот один матрос взял топорик и стал бить им акулу. Но топор отскакивал от нее, как будто она железная. Акула не реагировала на удары, и все решили, что она умерла. И тогда этот матрос ткнул пальцем ей в глаз — черный, казавшийся слепым. В одно мгновение акула отхватила ему руку, и кровь фонтаном ударила вверх… Потом этот матрос умер от шока.

Вообще-то, я человек не пугливый. Но перед акулами испытываю панический страх. В течение многих лет мне снился один и тот же кошмарный сон — я лечу в самолете, который затем терпит катастрофу и падает в воду. И меня окружают акулы… В этом месте я всегда в ужасе просыпался. Этот страх и сегодня настолько силен во мне, что даже, купаясь в Черном море, где нет опасных для человека акул, я стараюсь не думать о них. Но стоит мне вспомнить об акулах, как я на предельной скорости устремляюсь к берегу…
«Это одно из моих любимейших интервью»
Я не знаю, сколько взял интервью за свою жизнь. Сотни? Наверняка. Больше тысячи? Скорее всего. Запомнились далеко не все. Лучше других запоминаются неудачные. Однако бывают интервью не то чтобы удачные или блестящие, но обнажающие суть человека, жизни. Они случаются редко.
Невозможно объяснить, почему. Вот они-то не просто запоминаются, они продолжают в тебе жить, напоминают о себе, заставляют тебя много лет спустя вдруг, ни к селу ни к городу, задаться вопросом: а как он (она) поживает? Как у него (нее) дела? Перечитываешь или пересматриваешь запись беседы и говоришь себе: «Надо же! Какой блеск! Как же это получилось у меня?!»
Таким для меня стало интервью с бывшим членом Каморры Сальваторе Стриано. Я сейчас пишу эти строчки – и вижу его: заостренные черты, колючие быстрые глаза, резко очерченный рот, лицо жесткое, но вдруг озаряемое нежностью, когда он разговаривает с ребенком. Словом, это одно из моих любимейших интервью.

Познер: Давайте, как всегда, начнем сначала. Как у вас все начиналось?
Стриано: Зависит от того, о каком «всем» идет речь. В моей жизни много разных «всё».
Познер: Наверное, о том… что можно было бы назвать опасной жизнью.
Стриано: Она началась с того, что я расхотел ходить в школу. Мне было десять лет. Я с большей охотой торчал на улице, играл с другими и… шатался. Тогда было полно американцев, я продавал им пиво, водил их к проституткам. И зарабатывал деньги.
Познер (с недоумением): И вам было десять лет??
Стриано: Десять.?
Познер (с недоумением): И вы знали, где найти проституток??
Стриано: Да, под каждым домом в моих переулках стояли проститутки.?
Познер: И американцы вам за это платили? Это военные американцы были?
Стриано: Все они были военными.?
Познер: И они вам платили деньги за это??
Стриано: Конечно. Мы доставали им алкоголь, наркотики и проституток. А они нам платили.
?Познер: Мы – это кто??
Стриано: Я и еще четверо-пятеро таких же ребят.?
Познер: То есть это была маленькая банда??
Стриано: Маленькая банда, но мы не делали ничего плохого.?
Познер: Ну и дальше как пошло??
Стриано: Дальше… мы потихоньку выросли. А потом американцы уехали, потому что на площади Муничипио, на спуске Сан Марко заложили бомбу в их здании. Все взлетело на воздух, и корабли больше не стали останавливаться в порту Неаполя – это было опасно.
Познер: И как вы тогда стали деньги добывать?
Стриано: Мы воровали косметику: губную помаду, лаки. И продавали проституткам, потому что они много ими пользовались.
Познер: В это время вам было сколько лет??
Стриано: Одиннадцать-двенадцать.?
Познер: Двенадцать лет… А когда вы впервые столкнулись с Каморрой??
Стриано: В четырнадцать. Я работал с ними… но вне организации. Я приносил им лотерейные билеты. У нас тут есть номера, государственные. Но Каморра этим занималась незаконно. У них были блокноты, куда записывались номера, а я ходил забирать эти блокноты, потом относил их в одно место. Поскольку я был маленький, никто меня не останавливал с моей сумкой.
Познер: То есть вы тогда еще не были членом Каморры, просто помогали им, выполняли какие-то их поручения. А когда вас заметили? Когда на вас обратили внимание?
Стриано: Ну они видели, как я работаю. И говорили, что я смышленый, что у меня хорошо получается. А потому поручений становилось все больше. Они давали мне свое оружие, и я приносил его домой. Давали наркотики – например, чтобы передать кому-то. Я был быстрым, умел водить машину, умел… умел это делать.
Познер: А как человек понимает, что он стал членом Каморры, что он действительно уже является каморристом? Как это с вами произошло?
Стриано: Когда они приходят за тобой к тебе домой. Даже если тебе ничего не надо делать. Ищут тебя, потому что хотят, чтобы ты был с ними… Ты им не нужен, но лучше, чтобы ты был рядом. Они чувствуют себя более уверенно, потому что думают, что ты можешь быть очень полезен.
Познер: Можно сказать «нет», и тогда тебя больше не пригласят? А если ты говоришь «да», это значит, что ты согласился стать членом Каморры? Это так надо понимать?
Стриано: Ну, нет строгого правила. Ты не подписываешь контракт. Видишься с ними день, два, три… Важен факт, что ты идешь рядом с этими людьми и другие тебя видят, автоматически причисляют тебя к ним. Это другие – полиция и враги – делают из тебя каморриста, а не друзья. Для друзей ты не каморрист, ты друг, часть группы. И все.
Познер: Значит, в этой группе все друг другу помогают, и есть какое-то… ну, товарищество, где вы все вместе и друг на друга рассчитываете?
Стриано: Да. Да, это так.?
Познер: А когда в первый раз вы столкнулись с полицией – вы лично??
Стриано: В четырнадцать лет. Нас остановили на ску… на «Веспе». Меня и одного старшего друга, ему было лет сорок. При нем нашли три грамма кокаина. Поскольку у него имелись тяжелые судимости, для него это обернулось бы несчастьем, ему грозила тюрьма. И я сказал, что это мой кокаин. Я не должен был попасть в тюрьму. Но меня все равно забрали.
Познер: И сколько же вы провели в тюрьме?
Стриано: Мало, десять дней.?
Познер: То есть вы взяли на себя его преступление?
Стриано: Да.
Познер: Ну, наверное, это оценили?
Стриано: Конечно. Так обычно делается в преступных группировках, в Каморре. Преступление должен брать на себя тот, у кого меньше провинностей перед правосудием, потому что в конце концов он заплатит меньше всех. Дело не в том, кто совершает преступление, ибо когда его совершает один человек – это все равно что его совершили все. А если надо расплачиваться, то это падает на того, кто рискует меньше всего.
Познер: И что дальше происходило? Ведь у вас возникли очень серьезные проблемы с полицией…
Стриано: Потом я вышел. Начал постоянно встречаться с группой друзей. Попадал в тюрьму и выходил из нее. Меня всегда останавливали, когда я носил при себе оружие, пистолет.
Познер: А что вы делали, собственно? Вот целыми днями чем вы занимались?
Стриано: Подъем в три-четыре часа дня, завтрак в четыре, кокаин… И бродили по улицам. Охотились на богатых туристов или на врагов. Каждый день.
Познер: Хорошо, вот вы нашли богатого туриста – что происходит? Например, я иду, я богатый турист. И что?
Стриано: Так ничего, потому что у тебя нет сумки… А, заберу часы.?
Познер: А как??
Стриано: Вот так. Хватаешь здесь, держишь здесь и поворачиваешь. Вот здесь разорвется.?
Познер: Это надо делать очень быстро?
?Стриано: Быстро, да. Иногда получаешь по лицу, но это часть игры, куда же без этого.
Познер: А оружие… Это было ваше оружие, или вам старшие давали его хранить, потому что опасались быть пойманными с оружием??
Стриано: Нет-нет. В семнадцать лет я уже был взрослым.?
Познер: А что вы почувствовали, когда впервые взяли в руки оружие?
Стриано: Бывало по-разному.
Познер: Нет, я имею в виду самый первый раз.?
Стриано: Я чувствовал, что могу лучше защитить свою семью.?
Познер: От кого??
Стриано: От тех, кто отворачивается от нее, кто ей угрожает. Государство от нее отворачивалось, а Каморра ей угрожала.?
Познер: Вот давайте чуть поподробней об этом. Что значит «государство от нее отворачивалось»??
Стриано: У моей матери было четверо детей и никакой помощи. Из детей трое собственных и одна приемная дочь. Она появилась у нас дома, когда ей было всего десять дней, потому что мать девочки убили, и моя мама забрала ее к себе. Работал в семье только отец, и он не мог прокормить нас. А еще была Каморра – люди из квартала, которые угрожали, всегда издевались. Ты не мог захватить себе хоть немного пространства – пространство всегда принадлежало им. Так что нельзя было даже заниматься ничем тайком, чтобы сводить концы с концами. И я видел, какими мои родители были грустными, какими они были бедными. И это подтолкнуло меня к тому, чтобы выйти на улицу и зарабатывать на жизнь. Чтобы семье помогать.
Познер: Значит, Каморра – это не одна организация, а много разных кланов, что ли, и они друг с другом могут враждовать и даже убивать друг друга, так получается?
Стриано: Это в основном группы, которые убивают друг друга. Собака ест собаку.
Познер: Да-а-а… И вы постепенно поднимались в своем клане, вас стали все больше и больше выделять?
Стриано: Да.?
Познер: И в чем это выражалось??
Стриано: Это просто так было.
?Познер: Нет, вы меня не поняли. Как вы понимали, что вас поднимают, что вы становитесь важной персоной в организации??
Стриано: По той свободе, которая у меня появлялась, по возможности делать разные вещи. Я мог, если хотел, продавать наркотики, не спрашивая ни у кого разрешения… Мог воровать в любом районе Неаполя, не спрашивая ни у кого разрешения. У меня была квота по лотереям, квота по контрабанде сигарет. Каждую неделю, даже если я не выходил на улицу, мне присылали деньги домой. В такой ситуации уже понимаешь, что ты неотъемлемая часть группировки.
Познер: На ваш взгляд, у вас было много денег?
Стриано: Нет, потому что… слишком много кокаина и слишком красивая жизнь. Хотя это в действительности не красивая, а ужасная жизнь. Но не знаю, почему она называется красивой. Женщины, секс, кокаин, преступность – все это «красивая жизнь». Я тратил на нее много денег. А потом, я был единственный в семье, кто принадлежал к… определенным кругам. Поэтому деньги исчезали.
Познер: А вы тогда были счастливы? Вы вспоминаете то свое состояние?
Стриано: Нет. Нет-нет, это сумасшествие. Я не был счастливым. Ты волнуешься за всех. Волнуешься за свою мать, сестру, брата, за друзей. Обязательно найдется кто-то, у кого дела идут хуже, чем у тебя. И еще всегда плохо ссориться. А эта среда состоит из ссор, угроз. Мы много занимались вымогательством – у магазинов, у людей. Однако наша группа нападала только на богатых. Мы были бедными, и у нас духу не хватало притеснять бедных. Поэтому мы трогали лишь богатых. Но и это нехорошо. Каждый раз, когда я вспоминаю… например, что я кого-то напугал или заставил плакать… Это все нехорошее дело.
Познер: Вам приходилось видеть смерть??
Стриано: Следующий вопрос.?
Познер: Вам приходилось видеть смерть, убийства??
Стриано: Следующий вопрос.?
Познер: А, понял, извините, пожалуйста.?
Стриано: Нет, да нет, просто… в Италии нет правосудия. Я бы с удовольствием ответил на этот вопрос, но сейчас Италия – это страна четвертого мира, она не созрела для того, чтобы слышать подобные ответы от итальянского гражданина.
Познер: А когда вы попали в тюрьму всерьез??
Стриано: В семнадцать лет.?
Познер: За что??
Стриано: За оружие. Две штуки. Не мое, одного моего друга.
Познер: И сколько же вы отсидели?
Стриано: Семь месяцев.
Познер: Семь месяцев… Что происходило с вашей семьей, пока вы были в тюрьме? С мамой, с папой… не знаю, были ли вы женаты или нет… вот что происходило с ними?
Стриано: Обо всем заботилась моя мать, когда меня не было. Отец всегда работал, он делал все что мог: трудился в порту разгрузчиком и выкладывался на полную катушку. Но нам помогала мать. Она выходила на улицу и делала что угодно, чтобы прокормить нас.
Познер: Разве ваши товарищи по Каморре не оказывали поддержку?
Стриано: Нет, я никогда не принимал помощи от Каморры, когда был вне игры. Так я оставлял себе возможность выбирать после освобождения – перестать или продолжать. Потому что если ты принимаешь помощь, в дальнейшем все становится сложнее. Ты будешь вынужден делать то же самое для других. А кто-то из друзей всегда сидит в тюрьме, и в конце концов ты станешь жить ради них, не сможешь больше жить для себя.
Познер: Я знаю, что вы в какой-то момент убежали из Италии в Испанию. Расскажите, почему и сколько вам лет было, когда это произошло?
Стриано: Мне было двадцать два года. Меня разыскивала полиция за ряд преступлений, которые мы совершили с друзьями. Один мой друг раскаялся и начал рассказывать обо всех наших делах.
Познер: И вы убежали. Какое-то время жили в Испании?
Стриано: Три года я там провел, скрывался. А потом меня арестовали, и я просидел полтора года в испанской тюрьме.
Познер: Арестовали в Испании?
Стриано: Да.
?Познер: Это был Интерпол?
Стриано: Интерпол.
Познер: А потом вас выдали обратно в Италию?
Стриано: Через полтора года слушаний. Я не хотел ехать в Италию, надеялся расплатиться в Испании. Но по закону это невозможно.
Познер: А что, сидеть в Испании лучше, чем в Италии??
Стриано: В сто тысяч раз лучше.?
Познер: Почему? Чем лучше?
?Стриано: Потому что в Испании разрешают звонить домой каждый день. Семье, друзьям, кому хочешь. Разрешают заниматься любовью с той, которую ты любишь. Они гораздо человечнее.
Познер: Значит, вас вернули в Италию и приговорили?
Стриано: Меня приговорили, пока я был в Испании, Италия судила меня и приговаривала в мое отсутствие. После окончания процесса меня перевезли в Италию, и уже был готов приговор, я знал, сколько мне надо отбыть.
Познер: Ну и сколько же??
Стриано: Пятнадцать лет и восемь месяцев.?
Познер: А сколько вы отсидели?
?Стриано: Восемь с половиной лет.
?Познер: Потом вас выпустили за хорошее поведение??
Стриано: Отчасти из-за того, что я хорошо себя вел, отчасти благодаря тому, что вышло помилование, и мне скосили три года.?
Познер: Что такое «помилование»??
Стриано: Помилование – это государственный закон, по которому снимают три года тюрьмы всем, когда уже некуда девать людей. (Со смехом.) Когда тюрьмы переполнены, заключенных приходится выпускать. И еще учитывается сумма сроков, которые я отсидел, когда был младше. Они потом все складывают и просто делают арифметический расчет: пятнадцать лет и восемь, минус это, минус то, минус сё. Получается лет восемь-девять примерно.
Познер: Ну и что такое итальянская тюрьма? Какая она? Попробуйте просто чуть-чуть описать ее.
Стриано: Это бессмысленное место. Супермаркет преступлений. Спортзал, где ты можешь тренироваться для совершения любого преступления. Место, где у тебя отбирают все чувства. Если ты сам не говоришь там «хватит», то становишься б?льшим ублюдком, чем был до того, как попал туда. Потому что там нет любви, там только надзирают и наказывают, надзирают и наказывают.
Познер: И в какой-то момент вы сказали себе: «Баста, я окончил с этим»?
Стриано: Я сказал «хватит»… (Вздыхает.) Пока я был в тюрьме, умер мой отец, умерла мать, я их так и не увидел… И мне это дело больше не нравилось. Потому что преступник… преступник не может любить. А я хотел любить. А затем я встретился с театром в тюрьме. И театр, я думаю, изменил мою жизнь.
Познер: Это была какая-то театральная тюрьма?
Стриано: Я сидел в тюрьме Ребибия в Риме, и там был театр. Пришел человек, который отбывал пожизненное заключение, и спросил нас, не хотим ли мы поучаствовать в театральном кружке. Ну так, забавы ради. Чтобы выйти из камеры, провести лишний час вместе, по-другому. И я согласился. Лучше выходить немного, ходить пешком, ходить в театр, чем лежать на койке двадцать четыре часа в сутки.
Познер: И что произошло с вами?
Стриано: Игра продлилась недолго. Дело в том, что… я никогда в жизни не читал. Вернее – читал только новости. А это оказалось здорово. Мне нравился герой, он был лучше меня… Мне нравилось играть, говорить: «Я хочу быть другим, не хочу больше быть собой». Еще в театре можно было побить кого-то, не сделав ему больно, можно было выстрелить и не убить, можно было нападать и никого не ранить. Все то же самое, что делал я, но со знаком плюс – идеальный вариант для меня.
Познер: А что вы читали?
Стриано: Что я читал? Много Шекспира, Брехта, стихи Леопарди, Назима Хикмета, Пабло Неруду, Гарсиа Лорку. Очень много пьес.
Познер: А какая пьеса Шекспира произвела на вас самое сильное впечатление?
Стриано: «Буря». Потому что там затрагиваются такие темы, как вина и прощение, свобода. Это были те чувства, с которыми я все время боролся. И при чтении меня охватывали особенные эмоции – во мне происходило что-то вроде травмы, по методу Станиславского. Пытаться увидеть в прошлой жизни то, о чем читаешь, и вспомнить те эмоции. С «Бурей» у меня это получалось.
Познер: А ваши мама и папа так и не узнали, что вы собираетесь хотя бы изменить свою жизнь и стать, например, актером. Они до этого не дожили?
Стриано: Нет.
Познер: Да… Я сегодня говорил с шефом полиции и спросил его, считает ли он, что само государство в значительной степени виновато в существовании Каморры. Как официальное лицо он не мог ответить прямо, но дал понять, что, наверное, считает. Вы того же мнения?
Стриано: Конечно. Это они. Они создают эту параллельную систему, чтобы подчистить все свои ошибки. Всю свою плохую работу. И все подразделения, которые они создали, – DIA (Direzione Investigativa Antimafia – отдел по расследованиям преступлений мафии), DEA, специальная полиция – они намеренно нагнетают ситуацию. Неаполитанцам хватило бы одной субсидии, чтобы сказать «нет» Каморре. Достаточно посмотреть на этот дом. Будь у них помощь от государства, они никогда не сказали бы Каморре «да». Но у них ее нет. Поэтому, если они хотят есть и приходит Каморра со словами «Вот, бери», – они держатся за это крепко и говорят: «Это мой хлеб». Они не смотрят на то, что это наркотики. Это хлеб. И это дело рук государства. Потому что нельзя оставлять людей на произвол судьбы. Если у тебя трое детей, ты не можешь двух кормить, а одного – нет. Тот, кому ты не дашь еды, пойдет кормиться в другом месте. А другое место – это беззаконие.
Познер: Вы сейчас где живете?
Стриано: Я живу тут, внизу. Не в переулках. Здесь мне немного лучше. Мне плохо в переулках.
Познер: Вы работаете сейчас как актер??
Стриано: Да.?
Познер: Где вы снимаетесь? Или в театре играете??
Стриано: Закончил в марте работать с неаполитанским «Театро Стабиле». Я два года колесил по всем театрам Италии. Как раз с «Бурей» Шекспира. Потом снимался в фильме в Риме, он называется «Из-за решетки – на сцену», это история моей жизни. Работал в нем с братьями Тавиани, кинорежиссерами. Тема фильма – Юлий Цезарь Шекспира. Еще одна тема, которая и сегодня, через две тысячи лет после древних римлян, актуальна… Шекспир пишет о таких вещах, как преступные группировки, предательство, власть, свобода. Таким образом он еще раз входит в мою жизнь, чтобы стать моим лечением, моим лекарством. И это просто потрясающе.
Познер: Вы живете в Неаполе?
Стриано: Я живу в Неаполе. Однако сейчас я в Милане, потому что мы репетируем. Меня пригласили сниматься в художественном фильме для телевидения, для Пятого канала. Фильм называется «Клан каморристов». Но мне всегда дают роли плохих персонажей. Ничего не могу с этим поделать.
Познер: Скажите, пожалуйста, в Милане знают про ваше прошлое?
Стриано: Да. Из-за фильма «Гоморра» почти все знают мою историю.
Познер: И к вам нормально относятся? Вы не чувствуете, что на вас люди смотрят с опаской?
Стриано: Я как… как гей. Как негр. Как еврей… Но я беспризорник, поэтому…
Познер: Как? При чем тут беспризорник??
Стриано: Беспризорники – это ребята, которые рождаются в переулках, которые растут на улице. И поэтому я не обижаюсь.
Познер: Нет?
Стриано: Проблема только в том, что люди упускают возможность узнать меня – я так всегда говорю. Моя мать научила меня одному: расист – это тот, кто видит различия, а не тот, у кого тяжелое прошлое или другой цвет кожи. Многие люди незрелые в этом отношении.
Познер: А ваши бывшие товарищи по Каморре – они вас оставляют в покое? То есть вы смогли спокойно уйти, без каких-либо последствий?
Стриано: Да. Я нашел очень хороший способ, чтобы сказать «хватит», я выбрал искусство, культуру. Многие выбирают предательство, переходят на сторону полиции, а это нехорошо, неправильно. Я же заплатил все, что должен был, а потом сказал «хватит». Я не могу больше жить такой жизнью. И они увидели, что это правда, и счастливы, что я изменил свою жизнь.
Познер: Никого не предали?
Стриано: Нет. Кроме родителей.
Познер: Оружие сдали?
Стриано: Да. Я его подарил.
Познер: Вы женаты?
Стриано: Да.?
Познер: У вас есть дети??
Стриано: Нет.?
Познер: Хотите??
Стриано: Сначала я хочу еще немного стабильности, потому что это очень большая ответственность – иметь детей.?
Познер: Желаю вам удачи и счастливой жизни.?
Стриано: Спасибо, от всего сердца.?
Познер: Мы ничего не упустили? Ничего больше не хотите сказать??
Стриано: Ну что мне еще сказать? Что с тех пор, как я изменил свою жизнь, – странное дело – все, что я замечаю, идет не так. А когда я был тем, из-за кого все шло плохо, мне все казалось менее драматичным, менее грустным. Это меня пугает.
Познер: А вы верите в существование «хэппи-энда», счастливого конца? Верите, что это может быть?
Стриано: У нас в Неаполе был один парень, которого звали Мазанеду. Он устроил революцию в девятнадцатом, наверное, веке – может, ошибаюсь. Я думаю, что Неаполь близок к тому, чтобы вспомнить тот день, что неаполитанцы скоро устроят революцию. Такому городу нужно возрождение. Только сила народа способна возродить его. Не нужен мэр, не нужен один человек. Нужна сила сразу всех людей. Чтобы сказать «хватит».
«Никто не знает на самом деле, кто будет президентом…»
Поговорим о событиях, которые, на мой взгляд, стоят того, чтобы о них поговорить. Это, конечно, развитие предвыборной кампании в Соединенных Штатах, с одной стороны, и совершенно неожиданный, на мой взгляд, даже для политологов, знатоков продолжающийся успех Дональда Трампа и, в общем-то говоря, довольно успешное продолжение кампания Берни Сандерса.
Сандерса называют социалистом. В Америке не может быть сенатор-социалист, это исключено по определению, но он, скажем, довольно левый человек, во всяком случае с точки зрения американцев. Вот он – и Трамп, которого никуда не впишешь, конечно, правый, конечно, демагог. Я не знаю, у нас печаталось или нет интервью, которое он дал газете «Нью-Йорк Таймс» исключительно по внешней политике будущего президента Трампа. Это стоит того, чтобы почитать, это не так трудно найти, это и в интернете наверняка есть. Он высказывается по всем вопросам, которые ему задают, причем есть вещи, которые, с одной стороны, нам бы понравились Например, его утверждение, что абсолютное идиотство воевать одновременно и с Асадом, и с ИГИЛом, поскольку ИГИЛ воюет против Асада – так мы на чьей стороне… Но и говорит, конечно, вещи довольно странные. Но главный его посыл – это что Америка должна быть на первом месте и что «нами пользуются» всякие хитрецы, они, так сказать, пользуются нашим величием, они умнее нас, хитрее нас, но если я буду президентом, то этого больше не будет. Нормальный совершенно посыл.
Еще раз хочу сказать, что то, что он пользуется таким успехом, это, конечно же, много говорит об умонастроении американцев. Я не знаю, насколько вы знакомы с системой выборов в Америке. Это довольно сложная и не очень демократическая система, хотя это страна демократии, как мы все знаем с вами. Но очень коротко просто хотел бы вам сказать, что каждый штат может послать на съезд, который, собственно, и определит кандидата от этой партии, определенное количество делегатов. Это количество зависит от населения штата: чем больше население, тем больше у него делегатов. Поэтому есть ключевые штаты, например Калифорния, которая может послать 135 делегатов, или Нью-Йорк – 95. А есть штаты, которые могут послать 4 – совсем мало. Кроме того, согласно правилам этих штатов, ведь Соединенные Штаты – это все-таки федеральное государство, и штаты имеют свои права: помимо конституции общей у них есть своя, которая, конечно, не выше общей…
Так вот, по правилам некоторых штатов (я сейчас говорю о республиканской партии) каждый из тех, кто пытается получить голоса попробую сказать поточнее. Есть штаты, где победитель получает всех депутатов, а есть штаты, где в зависимости от того, какой процент каждый набрал, такой процент делегатов он и получает. Такая вот система.
У демократов чуть-чуть по-другому это устроено. Но все равно к тому, чтобы выиграть в наиболее густонаселенных штатах, – к этому стремятся и в предварительных дебатах, и потом на президентских выборах. Вообще, такая система, когда решающий голос – не того человека, который проголосовал, а тот, которого он на самом деле выбрал. Попробую объяснить, что я имею в виду.
Вот, предположим, Трамп выходит победителем, в смысле он от республиканской партии будет кандидатом. Предположим, против Клинтон. И вот идет голосование. Возможна ситуация, при которой Трамп получить больше голосов народа, но при этом меньше голосов так называемых выборщиков. Потому что Хиллари выиграет в тех штатах, где больше выборщиков. Причем может быть на один голос больше. Скажем, если в Калифорнии (я условно сейчас говорю) 25 миллионов человек, то она может выиграть 12 миллионов 600 тысяч, а Трамп 12 миллионов 500 тысяч, – она получит все предыдущие голоса. Именно так. Причем бывали случаи, когда большинство народа голосует за одного, а побеждает другой, потому что у него больше выборщиков. Это придумано отцами-основателями, потому что они считали, что, вообще говоря, доверять народу полностью нельзя. Потому что народ не всегда понимает, кого надо выбирать.
Вчера (не знаю, смотрели ли вы программу или нет) у меня была программа с Николаем Усковым – чрезвычайно умным человеком, интеллектуалом (как он себя называет, и он действительно интеллектуал). И зашел разговор об этом вопросе. Он говорит: выбирать должны ответственные люди. А кто такие ответственные люди, кто это определяет? Ответственные люди, и дальше начинается: у них есть имущество, у них есть некие деньги, у них есть определенное образование – но тогда уже о демократии не будем говорить, правильно? Значит, так нельзя. Голосуют все. Но есть способ в Америке сделать так, чтобы решающий голос был не за рядовым человеком, а за выборщиками. А как определяются выборщики? Это активисты партии – люди, которые активно занимаются политикой, становятся членами партии и назначаются этой партии как выборщики. Такая довольно сложная система, на мой взгляд, повторяю, не демократическая, но те, кто создавал эту систему, с самого начала считали, что народ не всегда прав. Наверно, оно так и есть. В конце концов, народ выбирал Гитлера, и это лишь один пример. Я могу привести и другие.
Это одна тема, которая меня очень занимает – никто не знает на самом деле, кто будет президентом. Но можно сказать так: если от республиканской партии будет избран Трамп, то, скорее всего, президентом станет Клинтон. 60 процентов американского народа не доверяет Трампу. Шестьдесят. В данном случае голосовали только республиканцы. Значит, вряд ли он сможет что-то сделать.
Если республиканская партия сумеет его заблокировать (а они хотят, они считают, что это катастрофа для их партии, – тогда все те, которые голосовали за него – это как раз люди, которые считают, что американский истеблишмент забыл о них, что о них никто не думает, что наконец появился человек, который не часть этого истеблишмента, который говорит что думает, который не является политиком), – то они скажут: ну вот, подтверждение, и мы вообще не будем голосовать. И тогда опять за республиканского кандидата они не будут голосовать, и опять побеждает Клинтон. То есть шансы у нее очень большие. Только какой-нибудь серьезный скандал, на мой взгляд, ей может помешать. Сейчас идет этот вопрос о том, что она хранила на своем личном компьютере секретные сведения, а это абсолютно было запрещено, и, естественно, доведут до суда. И суд вынесет какое-то решение не в ее пользу, и вот здесь что-то может быть.
Что касается Бернарда Сандерса, то факт, что он вообще существует в таком виде, в каком существует, – это тоже показатель того, что происходит в Америке, потому что на самом деле он левый и в Америке левых не любят. И никогда не любили. И его называли социалистом, и по идее это, так сказать, смертный приговор в политике. И вот при этом только что он выиграл три штата – не очень значимые с точки зрения количества делегатов, но тем не менее три штата, а она проиграла во всех трех. Так что интересное идет развитие. Во всяком случае, такое ощущение, что американцы не очень довольны тем, что происходит у них дома. Что тоже интересно. Это первое.
Из выступления Владимира Познера в “Жеральдин” (29.03.16).
«Америка – это часть меня, того, кто я есть и во что я верю»
Лепить образ врага – старая-престарая, грязная-прегрязная игра. Она сводится к тому, чтобы лишить врага даже намека на человечность, чтобы в итоге он не воспринимался как человек. Добившись этого, несложно вызвать в людях страх, ненависть, желание убивать. Так, в частности, готовят солдат к войне. Мы стали свидетелями подобного подхода во многих странах мира.
Каковы корни предрассудков? Пожалуй, никому пока не удавалось ответить на этот вопрос исчерпывающе.
Как бы далеко в прошлое мы ни вглядывались, мы не находим человеческого общества, лишенного предрассудков. Психологи утверждают, что характер человека в основном формируется к пяти годам. Если наши родители, наше общественное окружение внушают нам, что люди с черной кожей, католики и, скажем, велосипедисты туповатые и жадные, дурно пахнущие, предатели и недочеловеки, мы воспримем это как истину. Усвоенное с молоком матери, это сформирует нашу психику с такой же определенностью, с какой молоко матери формирует наше тело. Это станет верой: «Велосипедисты – не люди». Преодолеть подобное убеждение крайне тяжело. Двадцатилетнего же сложно убедить в такой истине. Взрослый человек скажет: «Да, некоторые велосипедисты и в самом деле мало похожи на людей», другие же – «замечательные ребята». Но в любом случае объяснение не связано с тем, что они – велосипедисты. Глубоко сидящие предрассудки идут от ценностей, внушенных в ранней молодости. Предрассудки не имеют отношения к логике, но имеют непосредственное отношение к незнанию.
Как биолог по образованию я понимаю, что страх – это рефлекс, древнейший рефлекс самосохранения. Не знают чувства страха только люди психологически ущербные. Страх – жизненно важная биологическая реакция. Но это и нечто такое, чем можно манипулировать, пользоваться. Примеров тому – тьма.
На Западе некоторые заклеймили меня как пропагандиста. Этот ярлык тоже отливает страхом и требует некоторого рассмотрения. Я советский гражданин и, хотя критически отношусь ко многим явлениям жизни моей страны, сторонник социализма. Само по себе это не очень пугает в Америке тех, кто хотел бы внушить американцам боязнь Советского Союза и ненависть к нему. Но проблема в том, что ими придуман плоский, негативный образ стереотипного «советского», который должен был внушать страх и вызывать ненависть.
Советский человек расчетлив, лишен эмоций, груб, жесток, не достоин доверия и т.д. и т.п. Беда в том, что я не вписываюсь в этот образ. И отсюда стремление некоторых во что бы то ни стало «сорвать маску» с меня.
Сразу после моего появления в той или иной теле– или радиопрограмме в США слово дается «эксперту», чтобы он проанализировал меня и растолковал бедным, наивным зрителям, как я подготовлен, какова природа моей эффективности, почему нельзя мне верить. Чаще всего это люди профессорского облика, они тоном сдержанным и веским объясняют, что я крайне опасен из-за сочетания факторов, как то: знание языка, мастерское владение психологическими приемами, дар коммуникации. Все это совершенно поразительно и на самом деле отражает некоторую растерянность, которую испытывают авторы антисоветского стереотипа. Они более всего опасаются, что, узрев во мне нормального, всамделишного, искреннего человека, искреннего советского человека, американцы засомневаются в справедливости стереотипа и даже – упаси боже – в той политике, которая из него следует, а именно: антикоммунизм, гигантский оборонный бюджет, сама холодная война.
***
Позвольте обратить ваше внимание на этот пассаж. Вы видите, с какой настойчивостью (чтобы не сказать «настырностью») я заявляю о том, что я советский человек. Перечитав этот отрывок, я сам поразился ему, задумался, попытался понять – что на самом деле скрывалось за этими словами? И понял. Скрывались неуверенность, сомнения в том, кто я на самом деле. Я все еще доказывал всем – но прежде всего самому себе, что я «свой», русский, советский. Я кричал об этом, но как бы ни старался, не мог заглушить тихий, твердый, ироничный внутренний голос, говоривший мне, что никакой я не русский, никакой я не советский, а так, некое недоразумение, которое придумало себе роль, ухватилось за нее и держится из последних сил.
***
На самом деле я сам был поражен своей популярностью в Соединенных Штатах, своей способностью «достучаться» до рядового американца. Ведь хотя я и вырос в Нью-Йорке, но уехал оттуда в пятнадцать и возвратился лишь тридцать восемь лет спустя. Да, я свободно говорю на языке, да, я всегда старался быть в курсе жизни страны моего детства и моей юности. Но этого мало, чтобы стать настолько влиятельным.
Словом, я задавался этим вопросом множество раз. Ответ же пришел в процессе работы над книгой «Прощание с иллюзиями»: моя эффективность связана прежде всего с тем, как я отношусь к Америке. Все дело в том, что Америка – это часть меня, того, кто я есть и во что я верю.
Одним из моих любимых мест в Нью-Йорке был стадион «Эббетс-филд». Но он запомнился мне не только да, пожалуй, и не столько тем, что на нем играли «Бруклин Доджерс», а благодаря тому, что в 1944 году я, среди многих, слушал там выступление президента Рузвельта во время его последней предвыборной кампании.
Республиканская партия ненавидела Рузвельта-демократа, Рузвельта-противника монополий, Рузвельта, выигравшего выборы три раза подряд и теперь баллотирующегося в четвертый, Рузвельта, обожаемого американским народом. У него было лишь одно слабое место: здоровье. Заболевший полиомиелитом в молодом возрасте, он не мог ходить. Чтобы стоять, он надевал на ноги специальные металлические щитки, передвигался же в инвалидной коляске. В тот раз республиканцы решили сделать упор именно на это: стар, мол, Рузвельт, немощен, не может управлять страной. В ответ он проехал по улицам Нью-Йорка стоя, с непокрытой головой в открытом кабриолете под проливным дождем. Авеню и стрит были запружены сотнями тысяч нью-йоркцев, которые встречали его громовыми аплодисментами и восторженным ревом. И вот он прибыл на стадион. Он стоял у трибуны посреди поля в своей, ставшей знаменитой, мантии, освещенный сотнями мощных арочных огней, в свете которых потоки дождя превращались в переливающиеся полупрозрачные театральные занавеси. Я не помню, что он говорил. Но помню, как мы орали до хрипоты, помню чувство гордости от того, что я здесь, присутствую при сем, вижу его. Много лет спустя я понял, что Рузвельт принадлежал и принадлежит моей Америке, той Америке, которая и составляет часть меня. Америка Тома Пейна, Томаса Джефферсона и Авраама Линкольна. Америка великих песен, прославивших Джона Генри, Джо Хилла, Джесси Джеймса, Франки и Джонни, и сотен, и сотен других. Америка тех, кто эти песни пел и сочинял – Вуди Гатри, Ледбелли, Пита Сигера, Билли Холидей, Бесси Смит. Америка Декларации Независимости и бостонского чаепития, истоков великой демократической традиции, родившейся здесь и, несмотря на неблагоприятные условия, выжившей. Повторяю: выжившей – не победившей.
Тогда я этого не понимал, но сегодня знаю, что, вне всякого сомнения, ФДР – Франклин Делано Рузвельт – хотя и являлся патрицием, был плоть от плоти этого американского демократического наследия, той, настоящей Америки. Трудно не американцу, человеку, не прожившему в Америке много лет, полностью это почувствовать и понять. Такого человека вряд ли взволнуют до появления гусиной кожи слова Пейна: «Это времена, которые испытывают человеческие души». Либо вы часть этого, либо нет. Я – часть.
На «Эббетс-филд» состоялось последнее публичное выступление Рузвельта. То, что я был его свидетелем, – чистое везение. Почему-то мне кажется, что я тогда видел и Фалу, знаменитого скотч-терьера президента, сидящего рядом с ним в автомобиле. Но, возможно, это лишь игра моего воображения. Популярность Рузвельта была поразительной. Его и в самом деле любил народ, именно любил, а не боготворил. Республиканцы шли на все, пытаясь подорвать такую популярность. Вот один разительный пример: во время войны Рузвельт однажды навещал войска на тихоокеанском фронте в сопровождении своего неразлучного друга Фалы. Как-то случилось, что после визита Рузвельт отплыл от острова, по ошибке оставив любимого пса на берегу. Обнаружив это, он приказал капитану корабля, или адмиралу, развернуть судно и вернуться за Фалой. Республиканцы, пронюхав об этом, устроили целую истерику – мол, президент тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы прокатить на военном корабле собаку. Я помню, как Рузвельт ответил на их выпады по радио, проронив с восхитительным презрением: «Не удовлетворяясь нападками и очернительством в мой адрес, мои оппоненты теперь нападают на мою собачку Фалу».
Надо ли говорить о том, что он был великим оратором и великолепно владел искусством оборачивать подобные ситуации в свою пользу. После его слов я стал относиться к Фале почти так же, как к самому Рузвельту.
Из книги Владимира Познера «Прощание с иллюзиями»